Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В этом театре, однако, ничего не забывалось. Через десять лет Юрий Любимов создаст мистерию о погибшем Высоцком и вспомнит беседу могильщиков над прахом принца Датского. Сплетня станет исходом короткой жизни таганского Гамлета. Так соединились концы и начала.
После «Живого» Любимов очень внимательно стал смотреть в сторону современной ему русской прозы, которая в 70-е годы раскололась на два противостоящих друг другу направления. Одно из них связано было с жизнью деревни (так называемая деревенская проза), а другое — с проблемами городскими. Меньше всего это было географическое противостояние. Речь шла о том, что случилось с Россией. Для «деревенщиков» (а среди них кроме Можаева были такие писатели, как Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Федор Абрамов) деревня и была синонимом России: здесь, в деревне, с толстовских времен традиционно искали источники нравственных устоев нации. «Городские» писатели, и среди них прежде всего Ю.Трифонов, в свою очередь пытались понять, что происходит с человеком, живущим не в деревенской избе, а в блочном доме городского муравейника. И в том и в другом случае проба социального грунта была упрятана в исследование массового человека, взятого не в период революции или войны, но в период так называемой стабилизации общества. Развитой (или разлитой, как тогда шутили) социализм был новой формой советской жизни, устоявшейся в своих основных параметрах. Как сказано у Горького: «сто лет коров доили — вот вам сливки».
Любимов эти «сливки» и предъявил. Две половинки его души, корнями связанной с городом и с деревней, позволили ему встать поверх литературных барьеров. В «Деревянных конях» Ф.Абрамова (этот спектакль возник в 1974 году, к десятилетию Театра на Таганке), в «Обмене» и «Доме на набережной» по Ю.Трифонову (соответственно 1976 и 1980 годы) режиссер представил свой образ деревенской и городской России. Разделенные литературными барьерами, на сцене Таганки писатели сошлись и даже побратались без особых трудностей. Основной диагноз по отношению к современности, на удивление, сходился. Дело шло о вырождении нации.
Деревенская проза в поле зрения театра долго не попадала. Драматургические поделки из деревенской жизни, лакированные наподобие палехских шкатулок, отвращали многих серьезных режиссеров от этой тематики. Казалось, сама условность сцены и натурализм деревенской жизни несовместимы. Попытки городских актеров имитировать деревенскую речь вызывали неловкость. Все это Любимов и Боровский учитывали в своих «Деревянных конях». Тема отчуждения двух миров России — городского и деревенского — вводилась с самого начала. Мы входили в зал не через обычные двери, а через сцену, уже готовую к спектаклю. Можно было потрогать предметы, названия которых, наверняка, путались не только у меня в голове: вот, кажется, борона, зубья которой уперлись в пол Таганки, а это старый валек (кто-то рядом подсказал), отполированный временем. Можно было потрогать выцветшие ситцевые занавески, попереживать над стандартным убожеством сельского прилавка. Зритель ощущал себя, как в музее, и эту возможную эмоцию режиссер и художник не только учитывали, но и провоцировали с тем, чтобы через несколько минут окунуть нас в яростный мир человеческой борьбы. Не за жизнь, за выживание.
Оказалось, что поэтический театр на редкость пригоден для воссоздания образа деревенской жизни. Оголив пространство сцены, усадив по периметру всех участников спектакля (наподобие античного хора), Любимов разыграл повести Ф.Абрамова как крестьянскую сагу. Это была история уничтожения деревни, изложенная через историю смены и вырождения основного крестьянского типа. Этот тип был представлен судьбами разных женщин, которые по природе своей должны были защитить и сохранить сами основы дома, семьи, жизни.
Старуху Милентьевну играла Алла Демидова. Московская интеллектуалка, прекрасная Гертруда в Шекспире и не менее прекрасная Раневская в Чехове, она опоэтизировала аб- рамовскую старуху из села Пижмы, передав самое трудное: мелодию сохранившейся души. Раскулаченная, одна поднявшая дом, детей, настрадавшаяся, наголодавшаяся, старуха сохранила свет в душе. Этот свет был в иконописном лике, в крестьянских руках, не знавших никогда покоя, в полной достоинства речи. Актриса не имитировала северный русский говор, она его как бы впускала в свою городскую речь, открывая прелесть органической интонации. Это были действительно «сливки» национального духа, искореженного, но еще не окончательно убитого.
Тип Милентьевны был «уходящей натурой». На смену ей приходила Пелагея, которая представляла уже другую деревню и другое время. Пелагея — Зинаида Славина врывалась на сцену как бы с того света, окликнутая злословием дочери о том, что всю жизнь мать ее только что и делала, как тряпки копила. Ярость, крик, вопль, несгибаемая энергия приобретения. Не отличая добра от зла, без слез — «у печи выгорели», — ползком, бегом, на брюхе Пелагея выгрызала то, что ей казалось жизненно важным: золотые часики для дочки, место в пекарне или плюшевую жакетку, которая была тогда символом деревенского преуспеяния. В сущности, этот зверек, брошенный в ситуацию естественного отбора, и был продуктом нашей общей «пекарни». Ничтожность целей и страшная расплата за все: своим телом, душой и в конце концов дочкой Алькой, выброшенной из деревни в городской ресторан и уже приготовленной для «веселой жизни».
В «Деревянных конях» было явлено измельчание и вырождение крестьянского типа, того, что можно назвать генофондом нации. В «Обмене», возникшем через два года, Любимов эту тему открыл с иной стороны. Исповедь инженера Виктора Дмитриева была исповедью того серединного слоя, который составлял основу советского города. Это был тоже мир устоявшийся, спрессованный всем ходом по- стреволюционной истории.
«Обмен» имел по крайней мере два плана, скрытых в сюжете. Обмен квартиры и обмен души. «Квартирный вопрос» испортил народонаселение: фраза булгаковского Воланда с момента публикации романа сразу стала крылатой. «Коммунальный» тип жизни, в котором выросли и сформировались поколения, давал пищу большинству советских комедий, и не только комедий. В сущности, нет ни одного крупного русского советского писателя, который бы так или иначе не касался того людского муравейника, что был создан в наших городах в результате революции. Трифонов в этом плане оказался одним из наиболее зорких авторов.
Герой «Обмена» инженер Дмитриев со своей женой жил в одной комнате в коммуналке, а его мать, старая большевичка, обладала собственной квартирой. Мать заболела, рак, и надо было побыстрее съехаться, чтоб не потерять жилплощадь. Дело обычное, житейское, растиражированное в миллионах ежедневных экземпляров. Щекотливость была только в одном: предложить матери съехаться значило объявить ей о скорой смерти. Вот этот маленький порожек и надо было переступить инженеру Дмитриеву, а вместе с ним и замершему от знакомого ужаса таганскому залу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



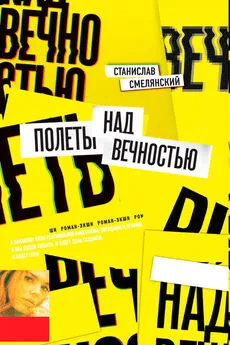

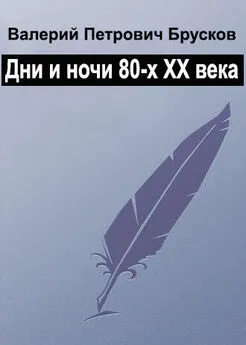
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

