Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В середине второго акта Брежнев вдруг покинул ложу. По залу пронесся шелест. Что это значит? Минут через двадцать его внесли вновь. За это время Ленин на сцене успел побеседовать с Армандом Хаммером. Когда Брежнев сел, кто-то из соседей, кажется Громыко, сообщил ему прямо в ухо, но очень громко: «Сейчас был Хаммер». «Сам Хаммер?» — переспросил старик, и тут уже зал не выдержал. Народ в голос смеялся, и только те, что сидели по углам каждого ряда, были непроницаемы. Служба есть служба.
Историческая эпоха кончалась фарсом. После визита Брежнева продолжать самообман и льстить себе иллюзией некой борьбы и противостояния «стене» было невозможно. Осенью умрет Брежнев, потом начнется мультипликация похорон, сначала Андропов, потом тот, кто разрешил нам «улучшить» пьесу о Ленине: «Не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей Константин Устинович Черненко» — популярная шутка тех дней. В промежутке успели вытолкнуть в эмиграцию Любимова. Ефремов оказался в пустоте, стиснул зубы. Решили убрать и его, но знаменитые актеры встали на защиту, поехали к министру, в ЦК партии, отстояли. Актеров власть баловала.
На гастролях в Польше весной 1985 года гример занимался рутинным делом: прорисовывал Ленина на лице
Александра Калягина. Артист терпеливо сносил это, выспрашивая меня про ксендза Попелюшко, которого убили незадолго до приезда театра в Варшаву. История была жутко запутанной, кровавой, глаза актера округлялись от ужаса, а в это время на лице его проступали все отчетливее черты вождя революции. Брехтовский сюжет. А потом в полупустом варшавском зале, в стране, находившейся в режиме военного положения, Ленин — Калягин пытался обратиться к полякам, используя слова своего сценического героя: «Никто в мире не сможет скомпрометировать коммунистов, если сами коммунисты не скомпрометируют себя. Никто в мире не сможет помешать победе коммунистов, если сами коммунисты не помешают ей».
Свидетельствую как очевидец: актер делал это первоклассно. Польский зал его понимал.
Мы вернулись в Москву в апреле 1985-го. В феврале Ефремов успел выпустить «Дядю Ваню». За пять лет до этого была еще «Чайка». Чеховский цикл продолжался двумя важными спектаклями, о которых следует сказать специально.
«Чайка» итожила первое десятилетие работы Ефремова в Художественном театре. Не только по чужому, но и по собственному опыту он знал коварное свойство «гениально-еретической» пьесы: «Чайка» может начать театр, но может его и прикончить. У всех на памяти было, что именно «Чайкой» Ефремов завершил свой «Современник» летом 1970 года. Новая версия — при всей ее внешней академичности — питалась энергией самополемики и пересмотра судьбы.
Современниковская «Чайка» отвечала ситуации внутри- тсатральной и исторической, она их невольно соединяла. Гибель «общей идеи» определила тон того спектакля. Ефремов, как уже было сказано, превращал Чехова в памфлетиста. Никто ему не был там интересен. Харьковские примадонны и тоскующие беллетристы выясняли отношения, склочничали да накапывали червей для рыбалки из клумбы, устроенной в центре сцены художником Сергеем Бар- хиным.
Наглая клумба подменила в том спектакле «колдовское озеро», деревья и сам воздух, в котором существуют чеховские люди. Через десять лет, пройдя очередной круг своей жизни, Ефремов заново ощутил пьесу. В его спектакль и в его режиссуру, кажется, впервые полновластно вошла тема одухотворенной природы, которая изменила масштаб человеческих конфликтов. Не «драма в жизни», а драма самой жизни стала занимать режиссера. В 1970 году «Чайка» была прочитана как памфлет, в 1980-м в ней всего слышнее звучала нота всеобщего примирения, понимания и прощения.
В «Чайке» началось многолетнее сотрудничество Ефремова с художником Валерием Левенталем (фактически оно началось за год до того в спектакле «Мы, нижеподписавшиеся», но по-настоящему они встретились именно на Чехове). Левенталь ответил новому чувству жизни и чувству театра, которые у Ефремова никогда внутренне не разделялись. «Чайка» предстала как световая симфония, кружение занавесей в мерцающем пространстве. Герои Чехова становились частью пейзажа, как деревья или облака, они жили в природе, растворялись и погибали в красоте равнодушного мира. Спектакль был озвучен криком чайки, не поэтическим, а скорее надсадным, тревожащим, выражающим тему бесконечного кружения и поиска чего-то, что могло бы успокоить душу.
Мхатовский актерский ансамбль, сформированный за десять лет, впервые предстал в своей внятной объединяющей силе. Лаврова — Аркадина, Вертинская — Нина, Смоктуновский — Дорн, Андрей Попов — Сорин, Мягков — Треплев, Невинный — Шамраев, Киндинов — Медведен- ко, Екатерина Васильева — Маша, а рядом — в разных составах — И.Саввина, Е.Ханаева, Н.Гуляева, Ю.Богатырев, Е.Евстигнеев, В.Давыдов, Р.Козак, В.Сергачев — это был уже прообраз той труппы, которую должен был бы иметь Художественный театр.
В отличие от современниковской «Чайки», режиссер захотел выслушать каждого героя пьесы. Он погрузил «слова, слова, слова» в светящуюся лиственную зыбь. Да, они были говорливыми, эти чеховские люди, говорливыми до того, что не замечали смерти человека: так умирал в этом спектакле Сорин — Андрей Попов. Но поверх всех разочарований и потерь набирал силу мотив веры среди упадка. Той веры, что питается не любовью или ненавистью к человеку, но пониманием исходной жизненной ситуации как неразрешимой драмы.
Режиссер и художник выдвинули вперед беседку-театр, которая становилась еще одним одухотворенным персонажем пьесы. Эта беседка жила в своем собственном ритме, она то приближалась к авансцене, то растворялась в глубине сада. В этой беседке начинался театр Кости Треплева и Нины Заречной. В конце спектакля театр этот представал разбитым, ветер гулял в его щелях, болтались на ветру рваные белые занавеси. Нина Заречная — Анастасия Вертинская вновь говорила о львах, орлах и куропатках, но на этот раз монолог Треплева обретал кристальную ясность и глубину. Смерть Кости проявила истинный смысл отвлеченных слов о Мировой душе и недостижимой гармонии. И на подмостках стояла не провинциальная девочка, но актриса, которая прошла свой путь страданий и проникла в источник символических видений. Идея слияния духа и материи обретала реальное человеческое содержание. «Нести свой крест и верить» — это не только про Нину Заречную было сказано.
В новой «Чайке» звучал, во всяком случае для автора этих строк, еще один скрытый мотив. Спектакль рассказывал о муке рождения новой мхатовской семьи. Тема актерского ансамбля, важная для Чехова, становилась еще и темой понимания и взаимодействия людей, собравшихся возрождать Художественный театр. Эта тема в разной аранжировке потом войдет во все следующие чеховские спектакли Ефремова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



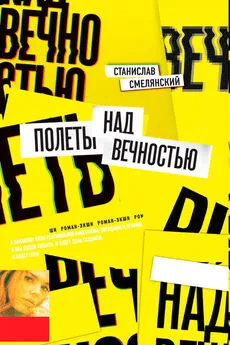

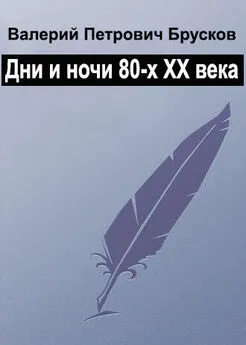
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

