Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь приходится объяснять, что все это значило. Каким образом спектакль о Ленине, подготовленный на сцене первого театра страны, запрещается к исполнению. Нужно объяснять, почему художники отвечали своей современности через Ленина, наполняя образ его тем содержанием, которое подсказывало время. Ленин в советском искусстве конца 30-х годов — это оправдание террора. Ленин середины 50-х — оправдание антисталинского курса. Ленин начала 80-х — попытка сказать о состоянии того режима, который вел свою родословную от Ленина.
Замысел, в осуществлении которого автор этих строк активно участвовал, был изначально уязвим. Истинные источники революционной трагедии не обсуждались, а ленинские идеи под сомнение не ставились. Напротив, Ленина призывали в свидетели против современного устройства страны. Это была опасная и бесперспективная игра, которой были отданы годы жизни. Тут ни убавить, ни прибавить.
Михаил Шатров (как всегда, работавший с группой хорошо осведомленных либеральных историков) предложил нетривиальный сюжетный ход. Было известно, что 18 октября 1923 года Ленин, находившийся в Горках на излечении после тяжелого инсульта, потребовал, чтобы его привезли в Кремль. К тому времени он потерял речь, правая рука была парализована. Он пробыл в своем кабинете несколько минут в полном одиночестве, переночевал в кремлевской квартире, а на следующий день вернулся в Горки. Жить ему оставалось три месяца. Драматургическая гипотеза заключалась в том, чтобы представить Ленина в эти самые последние несколько минут, спрессовать время, прошлое и будущее, и задать Ленину вопросы, так сказать, от наших дней. Тупик социально-экономический, проблемы демократии и диктатуры, спор о профсоюзах (с проекцией на проблемы польской «Солидарности»), вопрос национальной политики и культуры — все это было привнесено в пьесу, которая сочинялась вместе с театром. Мы спорили до хрипоты сутками, отношения режиссера и драматурга, казалось, вот-вот прервутся. Спорили не о Ленине, конечно, — о современности, о том, в какие болевые точки мы попадем и как сохранить лицо в этом опаснейшем лавировании.
На роль Ленина Ефремов пригласил Александра Калягина, блистательного комедийного актера, близко не подходившего к такого рода ролям. Он поначалу отказывался, зная участь многих артистов, игравших Ленина до него. Некоторые сходили с ума, боялись покушения. Другие становились высшей актерской номенклатурой и не имели права играть смешные или «отрицательные» роли. Ефремову был нужен именно Калягин с его нормальными человеческими реакциями, с его потрясающим взрывным темпераментом, наконец, с его неортодоксальным отношением к Ленину. Режиссер не ошибся. На мхатовской сцене возник небывалый Ленин: отрезанный от людей, затравленный, понявший многое из того, что предстоит пережить стране. Калягин находил тончайшие усилители смысла, которые позволяли переадресовать ленинские тексты в современность, столкнуть их с современностью и высечь из этого столкновения искру политического спектакля. Зал понимал все с полуслова, он разражался аплодисментами, когда мхатовский Ленин призывал признать частную собственность и вывести страну из голода. Зал замирал, когда этот Ленин, отрезанный от мира, по сути, заключенный, диктовал свое политическое завещание.
Спектакль начали готовить, не имея цензурного разрешения на пьесу. Решили пробивать готовый спектакль, полагая, что «они» не посмеют запретить спектакль о Ленине во МХАТе, испугаются мирового скандала накануне Съезда партии. «Они» не испугались. Никто не пришел «принимать» готовую работу, в которой участвовала вся огромная труппа Художественного театра. Готовый спектакль был запрещен на высшем государственном уровне, и этот запрет действовал почти год.
Это был год обманчивой тишины. В театре ничего не репетировали, пытались все время кроить и перекраивать пьесу в надежде снова представить ее «наверх». Нужно было спровоцировать высшее руководство на какое-то решение. «Наверху» были разные люди, в том числе и либералы, желавшие помочь театру (из тех, кого потом призовет Горбачев под свои знамена). По совету одного из них мы решили написать письмо К.Черненко. Стилистика того письмеца может быть интересна историкам социальных нравов: надо было пробиться к сознанию темного человека, найти некий безотказный стилистический ход к нему. Коронной фразой, придуманной М.Шатровым, была просьба Художественного театра разрешить «улучшить свое произведение о Ленине». Отказать «улучшить» они не смогли. И мы «улучшили»: переставили сцены, что-то дописали, что-то сократили, то есть произвели ту бессмысленную работу, которая предназначена была для тех, кто читал текст пьесы, не понимая, что такое текст спектакля. «Подарок» разрешили вручить. Первый спектакль играли для партийных активистов Москвы во главе с секретарем Московского горкома партии В.Гришиным. Активисты были приглашены без жен, 1200 пыжиковых шапок (стоял декабрь). Московский партийный лидер сидел в спецложе, и его «паства» смотрела в основном не на сцену, а в ложу, пытаясь уловить «настроение». Спектакль был не только милостиво разрешен, но и решено было трактовать его как гимн ленинизму. В Художественном театре ликовали. Очень скоро выяснилось, сколь иллюзорна была эта победа.
В марте 1982 года на спектакль пожаловал Брежнев в окружении своих соратников. Это был финал советского политического театра и конец мифологии «очищения революции». Брежнев, кажется, никогда в театре не был (за исключением ритуального «Лебединого озера»). Он предпочитал хоккей. Жить ему оставалось несколько месяцев, он плохо соображал, слабо держался на ногах, почти ничего не слышал, опекаемый своим геронтологическим окружением. Все это предстояло узнать во время спектакля. Генсека держали как куклу, в нужные моменты показывая миру. Его буквально внесли в ложу, в двух метрах от сцены. Человек ритуала, он раскланялся с публикой, получил в ответ жидкий аплодисмент, и началось зрелище.
Видимо, он все-таки понимал, что его привезли на спектакль о Ленине. Когда Калягин появился в луче света в кремлевском кабинете, Брежнев заерзал, заволновался. Он не мог сообразить, как себя вести. Дело в том, что в нашем театре было принято при появлении Ленина на сцене аплодировать. На этот раз овации не было, потому что Ефремов сознательно смазал мизансцену и нарушил традицию. Ленин появлялся бочком, незаметно, под тревожную вагнеровскую музыку. Зал молчал. И тогда громко, как это бывает у глухих, на весь зал раздался неповторимый голос, полупарализованная речь, знакомая всему миру. Брежнев спросил Черненко: «Это Ленин? Надо его поприветствовать?». На что тот, не повернув головы, громко отрезал: «Не надо». Зал похолодел. Мы поняли, что присутствуем при событии чрезвычайном. Смеяться было нельзя: уйма агентов, посаженных квадратно-гнездовым способом, наблюдали за залом. Оставалось следить за ложей, где разворачивался свой спектакль, не менее интересный, чем на сцене. Генсек громко комментировал все, что видел, пытаясь общаться с соседями. «Ты что-нибудь слышишь? — умоляюще спрашивал он своего министра иностранных дел и, не дождавшись ответа, горько сетовал: — Я ничего не слышу». Это были реакции больного старика, впавшего в младенчество. «Она хорошенькая», — вдруг лепетал он, всматриваясь в секретаршу Ленина— Е.Проклову. Брежневское окружение хранило гробовое молчание. Во втором ряду, в тени, сидел Юрий Андропов. Не шелохнув головы в сторону сцены, восседал восьмидесятипятилетний Арвид Пельше, шеф партийного контроля. Сжавшись в комок, в притемненных очках, скрывающих ужас, сидел министр культуры Демичев, наша Ниловна, которого отправили в другую ложу, напротив, так как в брежневской были только члены Политбюро. Служба безопасности обозревала зал, актеры выбивались из сил, пытаясь докричаться до главного зрителя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



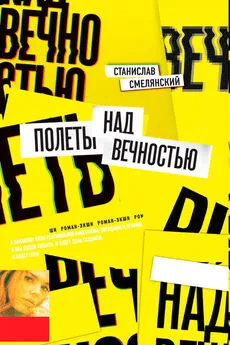

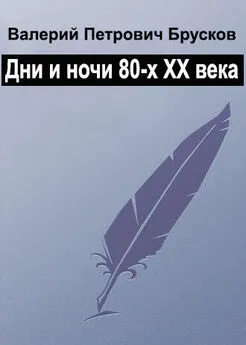
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

