Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Василий Розанов удивлялся, что христианская Россия в октябре 1917 года «слиняла» буквально в три дня. Именно этих трех дней в августе 1991 года оказалось достаточным, чтобы «слиняла» и Россия советская. Ликование было всеобщим. Площадь у Белого дома тут же назвали площадью Свободной России. Скинули с пьедесталов одиозные памятники, переименовали несколько городов и улиц, восстановили храм Христа Спасителя, то есть произвели необходимые ритуальные действия. На совершение главного ритуала — предать земле тело Ленина — решимости пока не хватило.
В революционные времена жизнь обычно сильно театрализуется, ставя собственно театр в затруднительное положение. Осенью 93-го года близ площади Свободной России установили танки и стали бить прямой наводкой по Белому дому, который претендовал стать символом нашей демократии. Страна смотрела октябрьский мятеж при помощи СЫ1Ч. Камеры оказались бесстрастны в подаче информации. Все мы превратились в зрителей грандиозного политического шоу. День был на редкость ясный, солнечный, иногда казалось, что это не начало гражданской войны, а какая-то затейливая компьютерная игра. Разноцветные солдатики, пушки, выстрелы, дымок. Театральность происходящего усилили зрители. Тысячи людей пришли поглазеть на побоище. Денек был воскресный, многие взяли с собой детей, для которых этот «спектакль» можно было бы посчитать утренником.
Это был один из значимых, формирующих новое сознание ударов, непримиримо расколовших культурную элиту. Еще более серьезным испытанием стала чеченская кампания. Иррациональные исторические силы выплеснулись наружу. Драматург Александр Гельман попытался сформулировать господствующее настроение: «В этом неожиданном броске на Чечню многое сошлось, но главное, что здесь сработало — это саднящее чувство поражения, которое накапливалось, нарастало год за годом, все эти десять лет. Ведь никакой войны не было, нас никто не побеждал. А чувство поражения многим сжимает горло» 1.
Среди этих многих оказался и А.Солженицын, ключевая фигура нашей жизни после Сталина. Его долгожданное возвращение на родину обозначило важнейшую перемену в массовом сознании. «Россия в обвале» прощалась с выпестованным двумя столетиями образом сверхписателя. Каждый жест его был семиотичен, начиная с путешествия из Владивостока в Москву. Продуманное поведение должно было подтвердить образ пастыря, имеющего что сказать заблудшей пастве. «Паства» поначалу внимала. Получив программу на первом канале, автор «Архипелага» начал говорить со страной. Горящие глаза, борода, страстная захлебывающаяся речь —- не только обликом, но и составом идей он напоминал Достоевского. Не принимая советского прошлого, он не менее резко крушил и становящийся олигархический режим (кажется, он первый и приклеил это определение к новой России). Программу Солженицына быстро закрыли, но это не вызвало ни малейшего волнения в обществе. Как не вызвал волнения и другой его поступок, еще более существенный. В декабре 1998 года, в день своего восьмидесятилетия, писатель публично отказался от ордена Андрея Первозванного, высшей награды постсоветской России. В ситуации «обвала» даже такой отказ не смог стать событием. А.Солженицын произнес отказную речь со сцены Таганки, после премьеры «Шарашки», поставленной Ю.Любимовым. Знаковый жест просвечивал изнутри не менее знаковым театральным содержанием, которое, кажется, не было даже замеченным.
Время испытывало на излом саму идею «театра-храма». Уход из жизни Анатолия Эфроса и Георгия Товстоногова совпал с жестоким кризисом Художественного театра и Театра на Таганке — двух важнейших театральных институтов предшествующей эпохи. В мае 1987 года после длительного внутритеатрального скандала разделилась надвое огромная труппа Художественного театра. Во главе первого МХАТ остался Олег Ефремов, во главе второго стала актриса Татьяна Доронина. Раздел МХАТ немедленно принял идеологический характер. Первый МХАТ присвоил себе имя Чехова, второй сохранил имя Горького. Пока Ефремов пытался — в который раз! — восстановить «товарищество на вере» (об этом речь впереди), вокруг другого МХАТ сплачивались «патриотические силы». Татьяна Доронина, в поисках морально-политической поддержки, предоставила свою сцену режиссеру Сергею Кургиняну. Мхатовцы решили воспеть Сталина при помощи пьесы Булгакова «Батум», несчастной попытки автора «Мастера и Маргариты» сговориться с дьявольской силой. Пьесу не трогали полвека. Горьковский МХАТ тронул. В финале генералиссимус в белом кителе задумчиво смотрел вдаль, а публика вставала в едином порыве под мощный распев упраздненного гимна: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Единственный раз после раздела я оказался тогда на Тверском бульваре. Булгаковедче- ское любопытство привело. Не забыть двух седых ветеранов и женщину, сидевших подле меня: они не пели, а как бы шептали михалковский текст, как молитву.
Два МХАТа, стоящие по обе стороны Тверской, вполне выражали образ «России в обвале». В той же степени этот образ приходит на память и в связи с тем, что произошло в Театре на Таганке. Возвращение Любимова было праздничным, его встречали как героя, публика Таганки скандировала: «Оставайтесь! Оставайтесь!». Некоторые плакали — весной 1988 года Москва жила еще в эйфории. Он остался, восстановил запрещенные спектакли, поставил несколько новых, в том числе «Самоубийцу» Николая Эрдмана. Успеха не было, потому что не было «стены». Любимову не с кем было бороться — он возвратился в другую страну и не сразу понял это. А когда понял, было уже поздно. Его главным оппонентом стал его же артист Николай Губенко. Скандал на Таганке проходил в рыночной форме раздела имущества. Как и в случае Художественного театра, раздел принял тупиковую идеологическую окраску. Оглохшее театральное сообщество очень скоро потеряло к этому сюжету всякий интерес.
В условиях рынка «стоимость» театра как социального института резко упала. Можно сказать, что «сверхтеатр» стал просто театром. Это понижение статуса происходило во всех видах духовной деятельности. Тиражи «сверхгазет», книг и журналов сократились в сотни раз (в той же пропорции увеличились тиражи бульварщины). Драматурги, режиссеры и писатели, полагавшие себя духовными водителями народа, растерялись. Свобода художественного творчества перестала ощущаться как нечто исключительное и благотворное, к ней быстро привыкли, как привыкают к наличию воздуха. Система государственной дотации перестала покрывать даже половину расходов театра. Пытаясь выжить, театры стали устраивать у себя казино и ночные клубы (не только в столице, но и в провинции). Вывески «ЕхсЬ.апёе» символически украсили входы ведущих театров страны. При этом не очень понятно было, что на что менялось и по какому, так сказать, курсу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



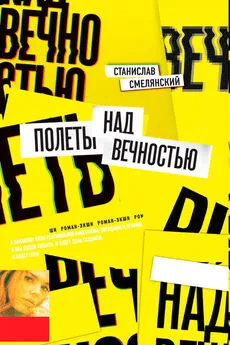

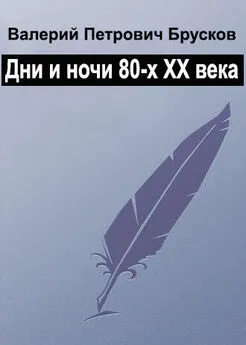
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

