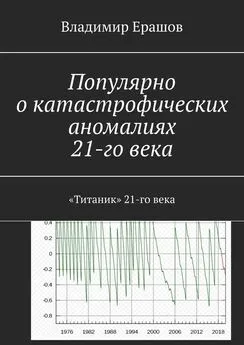Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«А знаешь, это только сначала трудно, а потом привыкаешь», — грустно, с выходом из роли произносил Рассказчик— И.Кваша, и эту «Тоску проснувшегося Стыда» режиссер изучал с особым интересом. У Рассказчика она была окрашена меланхолией, без взрывов и эксцессов. Он просто выходил на авансцену и предлагал залу вдуматься в конечную цель своего и нашего общего «мучительного опод- ления»: «И все это для того, чтобы получить в результате даже не усыновление, а только снисходительно брошенное разрешение: «Живи!».
Наш «Моцарт» эти секунды переживал иначе. Редактор газеты начал с ним разговаривать как с сотрудником, на языке, принятом среди своих. Пока Очищенный размышлял о том, что не надо «проникать», Глумов кивал. Он поддакивал и тогда, когда ведущий журналист ассенизаторов вспоминал «интересное заведение», бандершу и ее афоризмы о русской жизни, которая как селянка в малоярославском трактире — «коли ешь ее смаху ложка за ложкой — ничего, словно как и еда, а коли начнешь ворошить и разглядывать — стошнит!». В продолжение этих «мемуаров» Глумов бледнел, но все же поддакивал. Но когда Очищенный пустился в подробности, как какой-то статский советник по утрам к барышням ходил, Глумов не выдержал и заорал: «Воняет! Шабаш!».
«Тоска проснувшегося Стыда» вдруг схватила за горло и судорогой искривила лицо. Эти секунды нравственной судороги или содрогания завершали товстоноговскую формулу безвременья.
У Марселя Марсо есть такой номер: человек играет с маской, примеряет, а потом она приросла, и ни снять, ни содрать ее невозможно. Маска стала лицом. Валентин Гафт и сыграл это превращение — лица в маску.
Тему «масочности» жизни режиссер доводил до острейшего театрального звучания, когда выпускал на сцену адвоката Балалайкина. Бессмертный щедринский образ либерального болтуна был вылеплен Олегом Табаковым на уровне какой-то «чертовой куклы». Подземные лицедейские силы, которые дремали в «Современнике» невостребованными, получили великолепный резонатор. Табаков создавал не характер, а изумительную маску проходимца, готового на все. Гуттаперчевое лицо, не знающее устойчивого выражения, язык, все время вываливающийся из пасти, дикие выплески патриотизма пополам с детскими всхлипами тоски по загранице, наконец, готовность совершить любую подлость даже без особого вознаграждения завершали внутреннее строение спектакля.
То, что поводом для «Балалайкина и К°» стала проза, не было случайностью. Искусство Товстоногова в 70-е годы тоже было ориентировано в эту сторону. Тут дело было не только в отсутствии современной пьесы. В прозе искали источник новых театральных идей. Энергию режиссеров вызывала именно «не-пьеса» — странная гибридная форма, вбирающая прозу, драму, сценарий, песенные тексты и т.д. Чем дальше от традиционной пьесы — тем лучше. «История лошади», поставленная в 1975 году Товстоноговым в своем родном «доме», выразила эту тенденцию с исчерпывающей полнотой.
Лев Толстой против переделок прозы восставал, даже молился за грешные души «перекраивателей». Молитва, к счастью, по адресу не дошла. Его повесть «Холстомер», история старого мерина, рассказанная им молодняку в конюшне, эта классически нетеатральная вещь стала венцом русской сцены 70-х годов.
В спектакле Товстоногова свободно сплавились идеи, опробованные на разном материале разными поколениями нашей режиссуры. Сам замысел сценического «Холстоме- ра», а также литературная разработка спектакля принадлежали Марку Розовскому, одному из тех дилетантов, которые, как предрекал Мейерхольд, спасут театр. Товстоногов взял идею Розовского, рассчитанную на малую экспериментальную сцену, и поставил ей настоящее дыхание.
Впечатление от «Истории лошади» в БДТ было прежде всего впечатлением от грозной, неотступной, ничем не микшированной толстовской мысли, которая, как нарезной винт, шла к самому грунту человеческой природы. Есть ли стремление к добру и состраданию естественные свойства человека, а если есть, то как совместить их с законом табуна, животного и человеческого? В счастливом моменте рождения Холстомера, поднявшегося на дрожащих ногах и удивленно оглядывающего свою конюшню, в пляске табуна, в бессловесной заплачке-стоне, который вырывался из груди охолощенного коня, в гибели его и даже в том, что было после гибели, театр открывал трагически прекрасное устройство божьего мира. В центре мировой конюшни, сотворенной фантазией художника Эдуарда Кочергина, стоял Холстомер — Евгений Лебедев, кентавр в холщовой рубахе, и рассказывал библейскую историю лошадиной жизни.
Библейский тон требовал абсолютной простоты сценических средств. Песни, записанные с голоса автора инсценировки, напоминали скорее русское застолье, чем традиционный мюзикл. Сама «игра в лошадей», исполненная детского азарта, строилась вся на виду. Простейшими приемами балагана и притчи режиссер бросал в зал толстовские мысли о смерти мертвых и о бессмертии живых душ.
«История лошади» угадывала архаическую основу театра Толстого, скрытую за морализмом и вероучительством. Одна из самых морализующих вещей Толстого оказалась проникнута эпической объективностью.
Судьба Холстомера отражалась в системе многих судеб-зеркал, преломлявших центральную идею спектакля. Рядом с Холстомером проживалась жизнь его хозяина князя Серпуховского, сыгранная Олегом Басилашвили вне всякой карикатуры, как вариант привычный и принятый среди тех, «кого называют людьми». С той же эпической объективностью Михаил Волков открывал в жеребце по кличке Милый победительную, чисто животную и столь же человеческую радость бытия. В этом захватчике с ослепительными зубами и полуоткрытым чувственным ртом, счастливом сопернике Холстомера, из-за которого его охолостили, была своя мысль о мире, о жизни без мыслей, по зову инстинкта. Товстоногов затем превращал Милого в офицера, соперника князя Серпуховского, и этот офицер так же, как его двойник в лошадином мире, победно грыз сахар и так же презирал то, что люди называют человечностью и добром.
Судьба Холстомера отражалась в судьбе Вязопурихи, ушедшей на первый же зов Милого. А потом Вязопуриха — Валентина Ковель становилась француженкой Матье, любовницей Серпуховского, а затем представала еще и в образе Мари, содержанки последнего хозяина Холстомера, в котором мы опять узнавали все того же неистребимого Милого. Все эти перетекания из одного мира в другой Товстоногов объединял темой табуна, которому противостояла лучшая лошадь России. Одинокий голос Холстомера, не то стон, не то плач, не то крик изумления и восторга, и хоровое пение табуна, его через край переливающаяся сила, — звуковой образ спектакля.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)