Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Последний мотив уже знаком нам по тем возражениям, что Юзовский адресовал Питеру Бруку. Эстетический масштаб события отмечен с поразительной зоркостью, но критик боится своих же выводов, как боялся Ильинский «изменить советской идеологии», репетируя Акима во «Власти тьмы», как боялся Юзовский довериться спектаклю Брука. Критик, «организатор последствий искусства», пытается ввести смысл спектакля «Идиот» в знакомое русло. Создав классический портрет актера, он начинает говорить о бесполезности духовных усилий в преображении жизни. Он утверждает, вполне по-марксистски, что надо начинать с изменения общественных и материальных условий, и в этом плане трактует финальный аккорд спектакля, когда князь Мышкин в третий раз падает в эпилептический припадок, и фатальная болезнь пожирает «рыцаря бедного». Мир не принимает праведника и гонит его туда, откуда он явился: в болезнь, в позор безумия, в небытие.
Много лет спустя я спросил Иннокентия Михайловича, из каких, так сказать, источников питался его Мышкин, положивший так много начал в новейшей театральной истории. Актер вспоминал репетиции с Товстоноговым, какие-то свои старые обиды на него (он не жаловал режиссеров и не любил делить с ними свою славу, в этом смысле в нем навсегда сохранилась его провинциальная закваска). Он вспоминал, как режиссер хотел снять его с роли, как третировали его партнеры, как он сам себя ненавидел, не чувствуя, не понимая и не имея никакого опыта для того, чтобы играть «абсолютно прекрасного человека». Перелом произошел случайно. Подрабатывая на съемках какого-то фильма, в привычной суете и хаосе кинопроизводства он вдруг увидел нечто непривычное, даже завораживающее: какой-то человек, с очень выразительным лицом, коротко стриженный, стоял у колонны посреди толпы и читал книгу. Это было редкое публичное одиночество: ленфиль- мовская толпа обтекала его со всех сторон, а человек существовал сам по себе, никого не замечая, погруженный в книгу и в свои мысли. На следующий день, на репетиции «Идиота» партнеры Смоктуновского и режиссер были поражены каким-то внутренним переворотом, происшедшим с князем Мышкиным. Станиславский бы сказал, что актер «зазернился», то есть нашел душу роли и ее облик. Потом Смоктуновский узнает, что тот человек на «Лен- фильме» только что вернулся из лагеря, в котором пробыл много лет.
«Идиот» стал «весной света» нашего театра. Герой новой сцены соткался из воздуха времени, из лагерной пыли, из норильских заполярных ночей. Князь Мышкин явился из опыта актера Смоктуновского и из опыта тех миллионов безымянных, которых представил воображению артиста молчаливо стоящий в толпе, по-тюремному коротко стриженный человек.
Спектакли по Толстому и Достоевскому стали как бы камертоном послесталинского десятилетия. Короткая «оттепель» вступила в свои права.
Товарищество на вере
Вспоминая спектакль «Вечно живые», которым открылся в 1956 году «Современник», Олег Ефремов припомнил разочарование некоторых зрителей и критиков: «Спектакль замечательный, конечно, но ведь вы показали нам просто хороший МХАТ. Так и говорили разочарованно: «хороший старый МХАТ» 24.
Ефремов и сейчас приводит эти слова как высшую похвалу.
Молодые актеры, все без исключения выпускники Мхатовской школы, создали новую студию Художественного театра в полемике с «метрополией», находившейся в состоянии глубочайшего кризиса. Полемика шла по всем линиям, слагающим театр. Несогласие вызывал репертуар тогдашнего МХАТа. Театр, пущенный в жизнь под знаком чеховской «Чайки», давно утратил репертуарные критерии. Премьеры позорных пьес часто имели успех. Актеры жили в ожидании очередных Сталинских премий, которые тут раздавали в порядке очереди. Под премии выбирали пьесы и распределяли роли (награждали, конечно, только тех, кто играл положительных героев). Гипноз мхатовского имени сохранялся, но искусство театра обмелело и испарилось, утратив связь с реальной жизнью людей. Даже смерть диктатора не повернула их к жизни. Театр оглох в своем академическом величии.
В начале века Станиславский (не без помощи Мейерхольда) изобрел идею студии, считая ее спасительной для того «учреждения», в которое неизбежно превращался обретший славу МХТ. Предполагалось, что студия может стать гарантом, предохраняющим «театр-дом» от неизбежного застоя. Немирович-Данченко этой идее Станиславского не раз оппонировал, предвидя в студиях и студийцах потенциальных разрушителей и «могильщиков» преуспевающего и широко поставленного дела. В истории реализовались и надежды Станиславского, и опасения его умнейшего оппонента. Из студий МХТ вышли крупнейшие актеры, режиссеры и целые театры, которые во многом определили историю русской сцены XX века. Но именно в тот момент, когда надо было спасать сам Художественный театр, его лучшая студия «предала» родителей и устроила свою жизнь самостоятельно под именем МХАТ Второй. До конца своих дней Станиславский не мог им простить этого «предательства». В распоряжении историков нет ни одного документа, свидетельствующего о том, что Константин Сергеевич хоть пальцем пошевелил, когда в 1936 году МХАТ Второй был уничтожен решением Правительства. Исчезновение бывшей Первой студии с театральной карты Москвы было на руку МХАТ СССР имени Горького. Он постепенно превращался в образцовый театр империи, в ее «вышку», как тогда любили говорить, и ничто не должно было напоминать о прошлом превращенного театра. В течение трех сталинских десятилетий МХАТ студий не создавал.
«Современник», назвав себя студией МХАТ, жаждал усыновления. «Родитель» же не спешил с признанием. Студия была незаконнорожденной, от нее ждали подвоха и неприятностей. Тому МХАТ не нужна была студия, потому что она лишь усугубляла его кризисное состояние, подчеркивала и обнажала полную утрату идеалов. Если вспомнить Ибсена, которого так любили в Художественном театре начала века, можно сказать и так: юность всегда возмездие.
«Современник» попытался восстановить в своей практике образ старого Мхатовского Дома, его художественные и этические идеалы. Это была, конечно, мистификация, но все театральные революции нуждаются в такого рода одеяниях. В условиях другой страны и другой культуры они пытались ввести в жизнь легендарные принципы старого МХТ. Из истории всплыло и стало важным выражение «товарищество на вере». Вспомнив это, они сочинили устав, который должен был возродить новое товарищество актеров. «Современник» стал подчиняться не общим правилам «театрально-зрелищного предприятия», как назывались тогда все государственные театры СССР, а только закону, ими самими над собой установленному. Этот закон был в меру демократичен, так как все у них решал «театральный народ», то есть сами актеры. Они коллективно решали, брать или не брать пьесу в репертуар, выпускать или не выпускать спектакль на публику. Всей труппой решали судьбу актера: может или не может он работать в их театре. Когда очередь доходила до руководителя театра Олега Ефремова, он выходил из комнаты, и они со всей строгостью и категоричностью обсуждали и его. Идею театрального «дома» они попытались освободить от тех чудовищных наслоений, которые изуродовали ее в реальной практике советского театра. У них не было актерского балласта, никаких насильственных артистических соединений, которые к тому времени сделались бичом и ужасом большинства театров. Право ухода и «развода» было восстановлено в своем достоинстве. Это был первый за несколько десятилетий театр, родившийся не «сверху», а «снизу», по воле самих творцов, а не чиновников.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



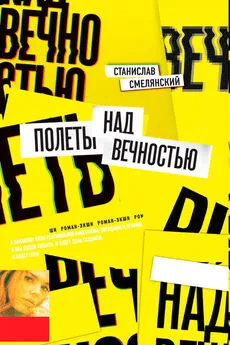

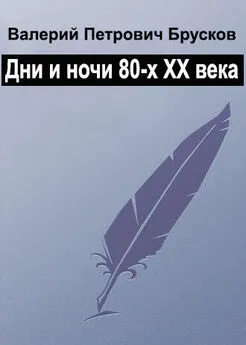
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

