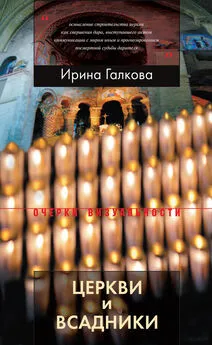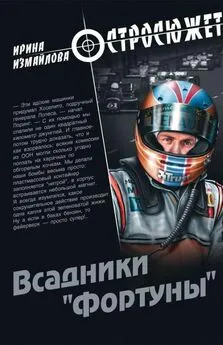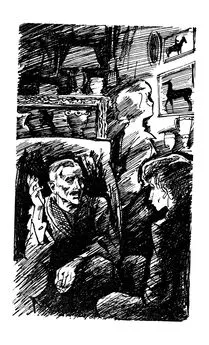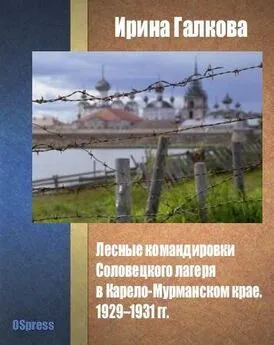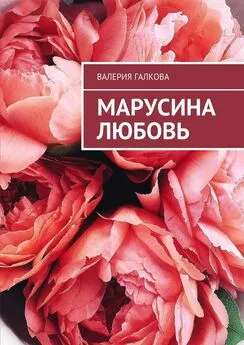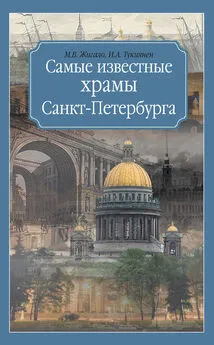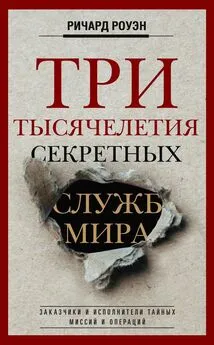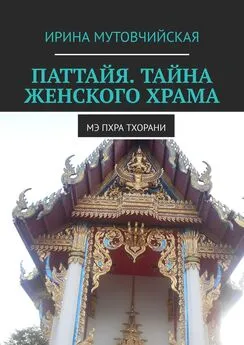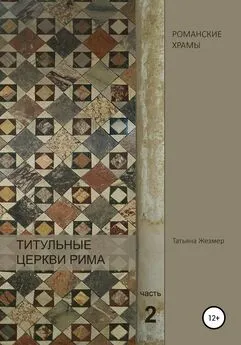Ирина Галкова - Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики
- Название:Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0398-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Галкова - Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики краткое содержание
И.Г. Галкова – искусствовед, медиевист, кандидат исторических наук (Институт всеобщей истории РАН). Ее книга представляет собой попытку реконструировать ситуацию создания двух романских церквей в регионе Пуату – Сен-Пьер в Ольнэ и Сент-Илер в Меле. Два конкретных случая рассмотрены на фоне общего анализа интенций и действий заказчиков церквей XII века, запечатленных в текстах дарственных грамот, хроник, писем, надписей и впервые систематически изученных в таком ключе. В целом исследование выявляет процесс становления в европейской культуре феномена родовой церкви, которая в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени станет практически непременным атрибутом репрезентации рода для высших кругов аристократии.
Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
3. Реформирование церкви и церковное строительство
Пытаясь представить некую общую картину церковного строительства в XI–XII вв., я уже не раз вынуждена была делать оговорки относительно того, что тот или иной ее аспект не оставался неизменным. Однако этих оговорок, конечно, недостаточно и представленный здесь обзор будет не до конца верным, если не уделить в нем специального внимания тому, сколь динамична на самом деле была эта картина, и не наметить основных траекторий происходивших тогда изменений. А они были весьма существенными, ведь обозначенный период был отмечен колоссальной трансформацией самой церкви и принципов ее взаимоотношений с мирянами, получившей название григорианской реформы. Начавшись с восстановления строгости монашеского общежития, она привела к существенным преобразованиям самого института церкви. Реформа устанавливала гораздо более четкое разграничение областей деятельности мира и церкви и полномочий их представителей. Их строительные инициативы, соответственно, тоже не могли не меняться.
До реформы светская инвеститура клириков приводила к тому, что высшие слои аристократии и церковные иерархи представляли собой тесный круг, сплетенный родственными связями и взаимными обязательствами. То, как в этом кругу выстраивались отношения, зависело часто уже не столько от церковного сана или должности принадлежащих к нему, сколько от сложившейся ситуации [298]. В строительных инициативах епископов, герцогов и графов эта близость также находила свое проявление.
В действиях епископов нередко прослеживаются личные и семейные интересы. Строительство собора епископом Анжера в начале XI в. осуществлено при поддержке близких (его отца и матери), и грамота, сообщающая об этой перестройке, на деле мало чем отличается от документа, составленного от лица мирянина [299]. Еще более мирским жестом выглядит строительство церкви Гроба Господня епископом Пуатье Исембертом: он возвел ее неподалеку от своего замка в Шовиньи после паломничества в Иерусалим в 20-х гг. XI в. [300]Это пример личной активности, какую нередко проявляли и миряне [301]. Описание этого факта, как и последующей передачи церкви монастырю, полностью укладывается в парадигму светских заказов и дарений. Единственное отличие (на уровне документа) состоит, пожалуй, в том, что среди свидетелей, подписавших дарственную, кроме родственников епископа перечислены все главные члены соборного капитула (в числе которых, впрочем, тоже был по меньшей мере один родственник – племянник Исемберт, вскоре сменивший его на епископской кафедре) [302].
При этом инициатива светских лиц, облеченных властью, в XI в. подчас напоминала руководящие действия епископа. Особенно ярко, пожалуй, это проявилось в деятельности графов Пуату, которые, как упоминалось выше, считали своей обязанностью отстраивать собор, восстанавливать церкви, пострадавшие от пожаров, основывать новые монастыри на территории графства [303]. Именно граф, а не епископ Пуатье, состоял в переписке с Фульбертом Шартрским во время строительства соборов Пуатье и Шартра, и именно он (судя по сохранившемуся ответу Фульберта) приглашал последнего на церемонию освящения главного храма Пуату [304]. Граф даже мог давать разрешение на строительство приходской церкви в пуатевинском диоцезе – функция, по определению принадлежавшая епископу [305]. Такое пересечение епископских полномочий с действиями светских сеньоров было отчасти признано церковным законодательством и являлось одной из черт эпохи «частной церкви» [306].
С конца XI – начала XII в. ситуация существенно меняется. Разительно отличается от упомянутого случая епископа Исемберта след, оставленный в анналах того же монастыря (Сен-Киприан) его последователем, епископом-реформатором Петром II: упорядочивая дела диоцеза, он дарит монахам церковь и просит за это возвести еще одну в оговоренном приходе [307]. Подобным же образом в 1117 г. поступает архиепископ Ги Бургундский, договариваясь с аббатом Сито о строительстве в своем диоцезе цистерцианской обители [308]. В ряде сходных документов XII в. действия прелатов также обусловлены исключительно их саном и связанными с ним обязанностями [309]. От мирских форм проявления инициативы, если за таковые признать сопряжение строительства с фактами личной биографии, семейными делами, родовыми владениями (по меньшей мере в фиксации документов) восстанавливается строгость ситуации, где возведение храмов для епископов – необходимость, продиктованная нуждами церкви и паствы. В то же время сообщения о влиятельных сеньорах, действующих подобно епископам, в XII в. практически исчезают.
Реформирование монастырей наряду с освобождением их из-под контроля мирян, обновлением монастырского устава и правил общежития монахов, как правило, было сопряжено с перестройкой главной церкви [310]; поэтому со второй половины XI в. фигура аббата-реформатора становится, пожалуй, наиболее репрезентативной в отношении строительных инициатив, будучи описанной в монастырских хрониках и жизнеописаниях [311], запечатленной в эпитафиях и посвятительных надписях [312]. При этом до середины XI в. центральной фигурой истории монастыря (его основателем и созидателем) чаще всего становился покровитель-мирянин, как правило крупный сеньор, герцог или граф [313].
Та же тенденция прослеживается и в отношении монастырских грамот. В хартиях начала XI в., упоминающих о строительстве или перестройке церкви при участии светских лиц, часто акцентируется их активная позиция, заставляющая говорить именно о них как об инициаторах дела: миряне заявляют, что они выстроили или перестроили данную церковь или монастырь (а не только поспособствовали этому) [314]. Однако уже во второй половине XI – начале XII в. позиция мирянина все чаще сводится к пассивной роли донатора: в подавляющем большинстве хартий, где так или иначе упоминается строительство храма, речь идет о дарении монастырям земель и лесов под постройку [315]. Отдельного упоминания заслуживают случаи, особенно характерные для второй половины XI в. (времени активного перемещения церквей из частного владения в церковное): передача монастырю или коллегии церкви, где донатор-мирянин оговаривает необходимость ее реконструкции монахами или канониками как одно из условий дарения [316]. В таких случаях позиция заказчика часто утрачивает деятельный аспект, о строительстве говорится нейтрально – «для возведения (перестройки) церкви (монастыря)» [317] – или созидательная роль переносится на общину, в пользу которой сделан дар [318].
В ряде случаев в хартиях упоминаются как миряне, так и прелаты, вносящие каждый свою лепту в строительство храма, так что бывает трудно со всей определенностью сказать, кого в данном случае следует назвать заказчиком. Однако все же обычно созидательная активность одной из сторон, от которой зависели ключевые решения, акцентируется сильнее. И если в первой половине XI в. этот акцент смещен в сторону мирян, то во второй половине XI и в XII в. – в сторону церковнослужителей. Так, в случае основания приората Бельну (1050 г.) активная позиция принадлежит скорее мирянам – виконту Туара Гофреду и его жене, которые «упрашивали» аббата монастыря Сен-Мишель Азлона построить приорат [319], после чего тот отрядил для строительства архитектора – одного из своих монахов [320], который и воплотил в действительность замысел супружеской четы [321]. В документе, составленном сто лет спустя (1152 г.) по случаю сходной ситуации (правда, здесь речь идет о приходской церкви), об активной позиции мирян говорить трудно, хотя они тоже выступают подателями идеи, а также, по всей видимости, средств. Задумав выстроить новую приходскую церковь [322], два родственника обращаются к приору Гильельму, возглавлявшему приход. Далее приор не только назначает для строительства монаха-архитектора подобно аббату Азлону из предыдущего примера, но и в целом берет инициативу в свои руки: про него говорится, что он «взялся построить» (coepit aedificare) церковь [323], которая далее называется его «произведением» (opus); когда же местный епископ накладывает запрет на строительство, именно Гильельм обращается к папе и добивается у него разрешения на продолжение работ [324]. Вообще же для хартий конца XI – начала XII в. более характерна ситуация, когда со строительной инициативой выступает церковнослужитель, а миряне-донаторы откликаются на его призыв [325].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: