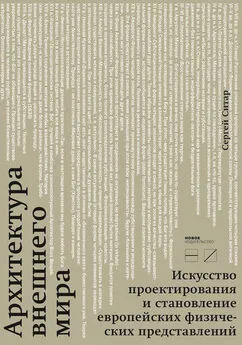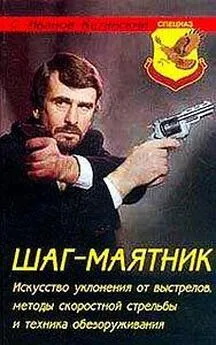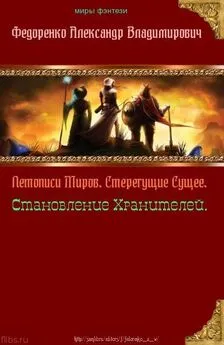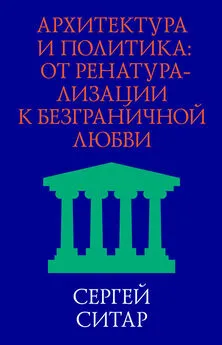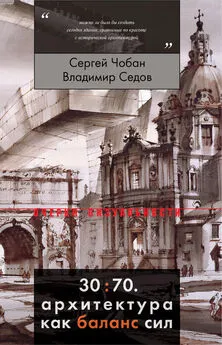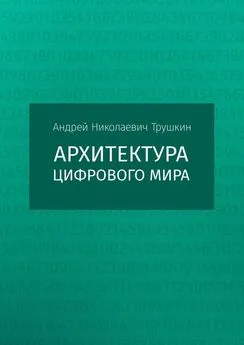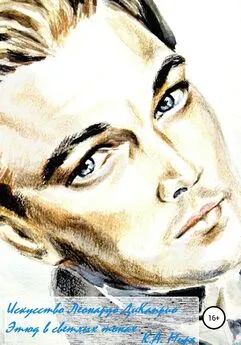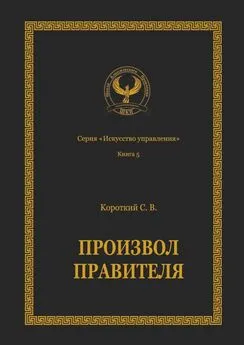Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений
- Название:Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-173-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений краткое содержание
Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этой связи весьма показательна полемика между двумя лидерами французского классицизма – Клодом Перро и Франсуа Блонделем (оба – члены Французской академии наук), – ставшая одним из центральных эпизодов знаменитого «спора древних и новых» на исходе XVII века. Полемика разгорается вокруг вопроса о возможности идеальной системы пропорций и других надежных критериев красоты в строительном искусстве. Перро, потрудившись над переводом на французский язык «Десяти книг об архитектуре» Витрувия и ознакомившись с результатами осуществленной Дегоде программы натурных обследований римских памятников, приходит к выводу, что искать идеальный геометрически канон для архитектуры бесполезно – красота постройки есть «продукт фантазии», факт индивидуального субъективного восприятия и предмет социального консенсуса, меняющегося под воздействием исторических обстоятельств или общекультурного прогресса. Для Блонделя такая позиция равнозначна отказу от поиска рационального пути к совершенству – пытаясь опровергнуть рассуждения Перро в своем «Курсе архитектуры» (1675–1683), Блондель выстраивает многоступенчатую генеалогию развития числовой соразмерности в зданиях: отталкиваясь от упомянутой Витрувием «первобытной хижины», эта генетическая последовательность связывает между собой лучшие памятники разных эпох, стремясь к окончательному и точному выражению архитектурной гармонии в виде универсального закона, который, по мнению Блонделя, можно и необходимо открыть. Две противостоящие точки зрения объединяет одна общая черта – почти благоговейное отношение к экспериментальному естествознанию и лаконичной математической красоте недавно выведенных физиками формул универсальных законов природы. Расходятся два академика в вопросе о существовании возможности обнаружить нечто столь же убедительное и надежное в области архитектуры. Перро категорически отделяет архитектуру (как продукт человеческой деятельности) от сферы действия законов природы, тем самым обрекая первую на блуждания без твердой математической опоры [81]. Блондель с помощью своих вычислений и генетических реконструкций стремится показать, что архитектура рождается из природы, следует ей и не перестает быть ее частью, а значит, как и все остальное в «естественно-научном мире», подчиняется универсальным законам. Есть, впрочем, и еще один общий пункт в размышлениях двух академиков – оба они признают важнейшим критерием для суждения о зданиях их утилитарную полезность [82].
Сравнение этих двух подходов позволяет оценить всю неоспоримую радикальность новоевропейского естественно-научного переворота. Складывается вполне определенное, хотя и парадоксальное впечатление, что в представлении Перро и Блонделя природа и архитектура поменялись местами: природа – нечто, в архаичном понимании, «стихийное» – трактуется теперь как своего рода «кладезь рациональности», а архитектура, то есть то, что создается людьми сознательно, воспринимается либо как что-то в основе своей иррациональное (Перро), либо как то, рациональность чего еще только предстоит обнаружить с помощью тщательного математического анализа (Блондель). Предпосылкой для этой «эпистемологической рокировки» служит подготовленное несколькими предшествующими столетиями европейской истории глубокое перерождение понятия «природа» – настолько существенное, что у историка античности А.Ф. Лосева в ХХ веке появляется повод сказать: «…природа в античном понимании… не имела ничего общего с ее пониманием в Новое и Новейшее время» [83]. Для прояснения этого различия наиболее показательным является тот факт, что в античности – от греческой классики до Сенеки – «природой» (точнее, «природами») принято было называть главным образом нечто, присущее растениям, минералам, животным и человеку и лишь затем уже (в какой-то мере) космосу, понимаемому как живое тело [84]. В эпоху классицизма природа окончательно универсализируется, «эмансипируется» от чувственных переживаний человека и гипостазируется, при этом уже не в качестве сущности-личности (как это было еще у Кузанского, отождествлявшего ее со второй ипостасью Троицы – Логосом-Христом, или у Альберти, видевшего в ней импровизирующего художника), а в качестве некоего безличного всеобъемлющего объекта, трансцендентного по отношению и к отдельному человеку, и даже к человечеству в целом. Эту «высшую объективность» природы, как и античный «образец мироздания», можно трактовать как «проект» – но только теперь это уже скорее не «божественный», а социальный, или, точнее, общественно-институциональный, проект. Не раскрываясь перед людьми сразу во всех нюансах, имманентная рациональность природы требует постоянного дальнейшего уточнения средствами науки, то есть последовательного, проникающего во все более тонкие детали «простраивания», главным инструментом которого становится математическая формализация. В результате то, что было «природой», для образованного сознания становится в некотором роде архитектурой – и наоборот.
Архитектуре в такой ситуации не остается ничего иного, как покорно следовать «в форватере» достижений естественных наук, которые неустанно трудятся над грандиозным зданием объективированной Вселенной. Одним из красноречивых свидетельств признания архитекторами факта перехода эпистемологической инициативы к естествознанию становится созданный Этьеном Булле в 1784 году проект кенотафа Ньютона в виде гигантского полого шара. К этому произведению автор присовокупляет следующее эмоциональное обращение: «О Ньютон, поскольку благодаря глубине твоей мудрости и проницательности твоего гения ты определил форму Земли, я замыслил облечь тебя в твое же собственное открытие» [85]. В этом послании можно расслышать и нотку запоздалого соперничества – хотя, безусловно, почтительного и самоироничного: новая физика поместила человечество в новое пространство, упорядоченное по ее математическим правилам; что ж, возможно, архитектуре удастся взять хотя бы частичный реванш, создав достойный символ торжества науки и заключив в него дух величайшего из физиков. Суровый и монументальный лаконизм «идеальных» геометрических тел, которые Булле, Леду и их соратники выбирают для своих проектов, выдает их глубокую зачарованность абстракциями и «емкими» формулами физической науки. Примечательно, что именно в охваченной модернизационными процессами Франции зарождается доктрина architecture parlante («говорящей архитектуры»), требующая, чтобы каждое здание несло в своем облике отчетливо выраженное сообщение – в частности, о своем назначении. В той или иной степени этой доктрине следовали все последующие архитектурные течения, включая «национально-романтические» опыты XIX века, эклектику, модерн, популярный в ХХ веке функционализм и, наконец, вдохновленный «Уроками Лас-Вегаса» постмодернизм. Этот переход архитектуры в «говорящее» состояние несет с собой нечто принципиально новое в срав нении с поэзисом готических соборов, которые – как широко признано благодаря ностальгическим ламентациям Гюго – служили для малограмотных прихожан незаменимыми наглядными пособиями по Священой истории. По сути, доктрина architecture parlante руководствуется стремлением воссоединить архитектуру с полем «смысло-мифопроизводства», но уже на новом этапе, то есть под эгидой секулярного гражданского общества современного типа, в ходе формирования которого все прежние «неподвижные догмы» вытесняются более или менее широким и динамичным публичным консенсусом – системой научных и политических установлений, выдвигаемых представителями образованного класса. В результате на место прежнего «архаичного» сакрально-символического содержания архитектуры постепенно встает функция конвенционально-знаковой репрезентации содержаний современной ей светской культуры (прежде всего новой естественно-научной и историко-генетической картины мира) – и в этом стремлении к «производству общезначимого» архитекторы стараются следовать примеру политиков и ученых, которые, преобразуя действительность, опираются на компактные тиражируемые знаковые представления (тексты конституций, политические лозунги, фиксированные дефиниции, теоремы, таблицы, уравнения и т. п.). Таким образом, антично-средневековое сотериологическое (или теоцентрическое, теологическое) пространство, пройдя в своем развитии через фазу ньютоновского абсолютного пространства, достаточно быстро трансформируется в пространство информационное [86] .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: