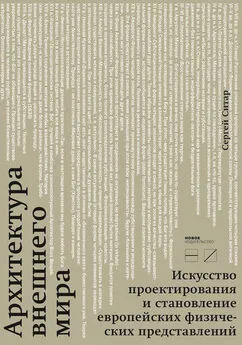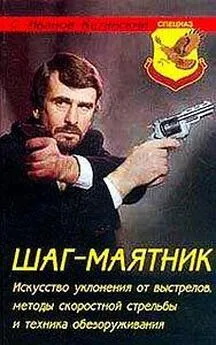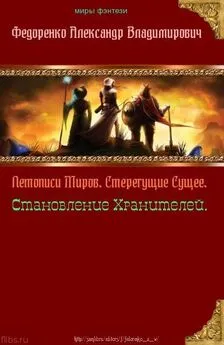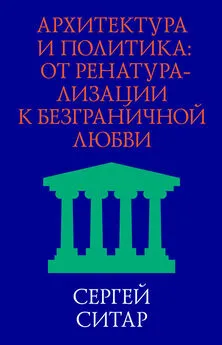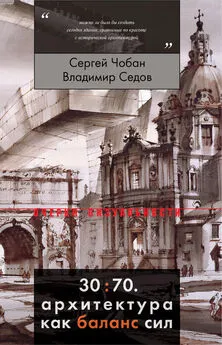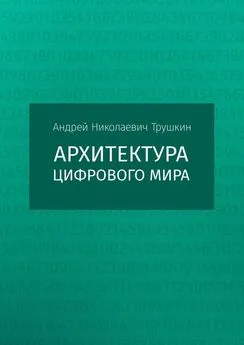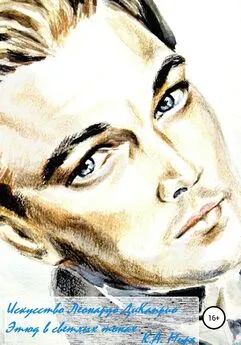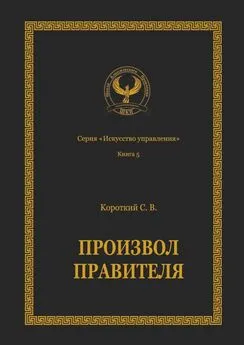Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений
- Название:Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-173-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений краткое содержание
Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В конце XVIII века несколько запоздалое напоминание об исторической первичности (или, по крайней мере, исходной коррелятивности) архитектурного творчества по отношению к формированию системных знаковых представлений появляется в трудах Иммануила Канта, посвятившего часть первой из своих «Критик» архитектонике чистого разума. Не подвергая вопрос об этом отношении специальному исследованию, Кант тем не менее настойчиво проводит в своих рассуждениях трактовку продуманного рационального мировоззрения как здания – и в этом смысле он не только перенимает эстафету у Декарта, но, пожалуй, проявляет даже большую последовательность. Насколько важна архитектурно-строительная аналогия для кантовского замысла превратить метафизику в строгую науку, видно, в частности, из автокомментария, которым он сопровождает переход от аналитического (учение об элементах) к конструктивному (учение о методе) разделу «Критики чистого разума» (1781):
Рассматривая совокупность всех знаний чистого и спекулятивного разума как здание , идея которого по крайней мере имеется у нас, я могу сказать, что в трансцендентальном учении об элементах мы оценили строительные материалы и определили, для какого здания, какой высоты и прочности годятся они. Оказалось, что, хотя мы мечтали о башне, которая должна была доходить до небес, запаса материала на деле хватило только для жилища, достаточно просторного лишь для нашей деятельности на равнине опыта и достаточно высокого, чтобы обозреть ее; между тем смелое предприятие, упомянутое выше, должно было не удаться по недостатку материала, не говоря уже о смешении языков, которое неизбежно должно было вызвать разногласия среди рабочих из-за плана и рассеять их по всему миру, причем всякий начал строить самостоятельно, по своему собственному плану. Теперь нас интересуют не столько материалы, сколько план здания; получив предостережение не увлекаться слепо любой затеей, которая, быть может, превосходит все наши способности, но тем не менее не будучи в состоянии отказаться от постройки прочного жилища, мы сделаем смету на постройку здания в отношении к материалу, который дан нам и вместе с тем сообразуется с нашими потребностями [87].
Разумеется, по своему назначению и месту в структуре «Критики чистого разума» это высказывание – в первую очередь поясняющая «служебная» метафора. И все же видеть в кантовском уподоблении знания зданию всего лишь фигуру речи было бы неосмотрительным упрощением. В философской позиции Канта, которую приведенный фрагмент суммирует достаточно полно, присутствуют по меньшей мере две примечательные черты, позволяющие прояснить логику дальнейшего развития европейской культуры. Во-первых, эта позиция является манифестом индивидуальной мировоззренческой автономии – внутренней независимости свободного «физического лица» в постоянно трансформирующемся информационном поле. В этом смысле она предвосхищает продолжающийся до настоящего времени процесс «социальной атомизации» общества, который по отношению к городу проявляет себя в таких тенденциях, как переход роли общественного пространства к СМИ и другим средствам дистанционного кодированого (со)общения, а также постоянное расширение парка индивидуальных транспортных средств и, наконец, «растекание» пригородов ( urban sprawl ) [88], где бывший городской житель надеется обрести некий «приватный рай» для себя и своей семьи, сведенной к «нуклеарному минимуму». Знание-здание Канта – это именно «небольшой» частный дом, окруженный «умными стенами», которые состоят из тщательно подобранных и выверенных рациональных аргументов, гарантирующих этому дому надежную защиту от несанкционированных хаотических вторжений извне. Во-вторых, поддерживая косвенным образом традиционный онтологический приоритет («онтофанию») архитектуры через указание на «архитектоничность» как необходимую характеристику подлинной науки, Кант, конечно, озабочен вовсе не тем, чтобы вернуть собственно архитектуре ее утраченную роль, но прежде всего тем, чтобы установить новый устойчивый порядок в области дискурсивных практик (начиная со своей собственной деятельности) и тем самым поднять эту область на принципиально новую ступень. При этом он не просто метафорически переносит понятие архитектоники в сферу производства знаний, а существенно расширяет объем этого понятия, определяя архитектонику как «искусство построения систем» [89], то есть таким образом, что этот термин (архитектоника), в дополнение к своей прежней области приме нения (зодчеству), становится непосредственно применимым к организации науки – мыслительно-дискурсивного поля, сферы производства смыслов и означающих. Новаторский характер этого жеста и его роль индикатора определенного состояния культуры можно оценить, если учесть, что философским понятиям, которые Кант стремится «архитектонически» систематизировать, не соответствуют уже никакие наглядные представления : иными словами, гипостазирование абстрактных понятий в европейской культуре к концу XVIII века приобретает такие масштабы, что для приведения их в единство уже (с точки зрения Канта) требуется специальная дисциплина, аналогичная архитектурному проектированию, но имеющая дело с объектами, недоступными прямому чувственному восприятию.
Позицию Канта можно охарактеризовать как отдаленное историческое эхо платоновского идеализма, для которого идея – это не стерильная интеллектуальная абстракция (концепт), но предмет сверхчувственного созерцания . При этом, однако, Кант считает необходимым определить идею прямо противоположным образом, а именно – как нечто недоступное созерцанию, несовместимое с самой возможностью наглядного представления [90]. И тем не менее в выдвигаемом им требовании архитектоничности знаниевых систем сохраняется еще некоторая инерционная связь с эстетическим удовлетворением как критерием истинности-благости (апелляция к красоте архитектуры через понятие архитектоники напоминает аргументы Декарта), то есть «системность» как таковая остается для него еще как-то причастной к сфере чувственных интуиций и переживаний. В дальнейшем эта «запоздалая» эстетическая составляющая из практики построения систем постепенно испаряется под натиском машинизма, который неуклонно стремится свести все критерии «правильности» к общеупотребительным математическим стандартам, количественным параметрам и операциональной эффективности [91].
В системе Маркса и Энгельса архитектонический компонент сводится в основном к расслоению действительности на «базис» и «надстройку». Это, впрочем, не означает, что с исторической сцены исчезает сама традиция представления мира как здания или механизма – скорее наоборот. Проект «математизированной вселенной», предложенный естественными науками и подхваченный в качестве парадигматической канвы нарождающимися прикладными науками об обществе, выглядит в общих чертах настолько убедительно, что его дальнейшее уточнение – особенно с точки зрения расширяющего свое политическое влияние «третьего сословия» (буржуазии) – воспринимается как доработка деталей уже почти готового сооружения. Только таким преувеличенно оптимистическим отношением к достижениям науки можно объяснить категоричность вывода, которым Маркс завешает свои знаменитые «Тезисы о Фейербахе» (1845): «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [92]. Для Канта мир в целом есть еще трансцендентальная идея, и потому он может быть только предметом познания , но не объектом воздействия (как целое). Для Маркса мир есть динамическая абстракция, непрерывно конкретизируемая в ходе человеческой деятельности (в первую очередь научно-технической и политической), а значит, по сути он всегда уже является объектом воздействия: задача теперь состоит в том, чтобы придать этому воздействию большую целенаправленность, то есть перейти к повсеместному строительству коммунизма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: