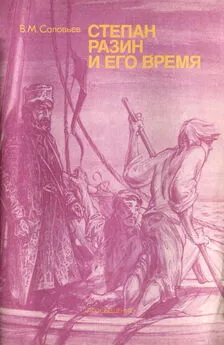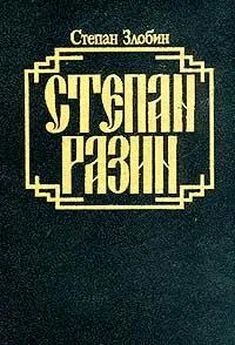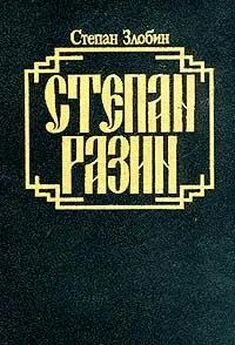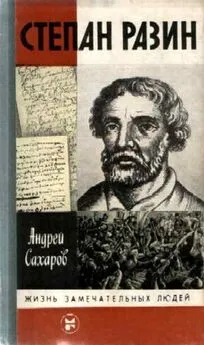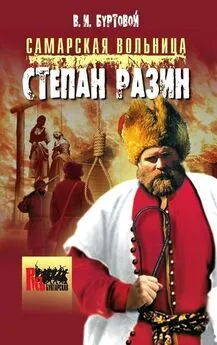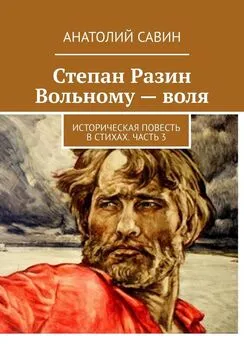Владимир Соловьев - Степан Разин и его время
- Название:Степан Разин и его время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Просвещение»
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-09-001902-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Соловьев - Степан Разин и его время краткое содержание
Степан Разин и его время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Казнив Львова и могущественного церковного иерарха, Ус и его сподвижники вырвали таким образом два ядовитых зуба, которые то и дело пускала в ход в Астрахани тайная антиповстанческая группировка, нанося тем самым немалый вред разинцам.
Однако пора вернуться назад, к событиям конца июля 1670 года, когда Разин, покинув Астрахань с 11-тысячным войском, отправился вверх по Волге. Поход повстанцев от Царицына до Астрахани, а затем от Астрахани и Царицына через Саратов, Самару, мелкие населенные пункты и остроги (крепости) до Симбирска можно поистине назвать триумфальным. Жители сами брали под стражу местную администрацию и с крестами, иконами и хлебом-солью выходили навстречу «батюшке» Степану Тимофеевичу. В занятых разинцами городах с теми или иными вариациями повторялись события Царицына и Астрахани, воспроизводились те привычные казацкому ядру повстанческого войска формы управления и социальных взаимоотношений, которые были распространены на Дону.
Период наиболее бурного и активного выступления масс начинается в разгар лета 1670 года. В августе рабочая страда самая тяжелая: два поля надо убрать да третье засеять. Не случайно конец уборки урожая совпадает с невиданным накалом классовой борьбы крестьянства. В течение очень короткого срока поднялось крепостное население Симбирского и Нижегородского уездов. Волны движения докатились до Рязани, охватили Заволжье и районы русского Севера, достигли Белого моря, где сомкнулись с Соловецким восстанием. Последнее вспыхнуло в 1668 году как протест монахов-старообрядцев против церковной реформы патриарха Никона, однако с проникновением в Соловки отдельных групп разинцев сквозь религиозную оболочку все явственнее и острее проглядывают те же мотивы борьбы, которые объединили участников крестьянской войны: недовольство боярским произволом, социальным и имущественным неравенством в монастырской среде, неудержимым натиском крепостничества.
В Симбирском уезде крестьяне разных национальностей — русские, татары, мордва, марийцы вместе с присоединившимися к ним конными и пешими стрельцами, как пишет один из представителей лагеря феодалов, «дворян и детей боярских побили с женами и детьми и дома их все разграбили, да и ратных людей, жильцов и дворян и детей боярских многих по слободам и по деревням и по дороге побили и переграбили».
Поднялось крепостное население вотчин боярина Морозова в Арзамасском уезде, в селах Лысково и Мурашкино. Летят от воеводы к воеводе в разные концы тревожные сообщения о том, что от Арзамаса по Нижний Новгород крестьяне «забунтовали, помещиков и вотчинников побивают, а которые поместья и вотчины московских людей, и их в тех поместьях и вотчинах нет, и в тех местах побивают прикащиков их с женами, с детьми и поместья и вотчины их разоряют». Из ряда деревень и сел отряды восставших крестьян направились к Нижнему. Официальная переписка тех лет между центральной и местной администрацией свидетельствует, что и «в нижегородских жителях была к воровству шатость».
Это было время, когда, по словам самих повстанцев, Волга — великая русская река, о которой народная поговорка гласит: «Матушка Волга и широка и долга», — «стала их, казачья», когда независимо от главного войска Разина и отдельных его отрядов в центрах феодального землевладения энергично действовали распыленные группы крестьян, когда островками воли становились села и деревни, где дела «всем миром» вершили расправившиеся с помещиком или его приказчиком крепостные. И таких островков было много — пламя крестьянской войны разгоралось и охватывало все новые и новые территории.
Чтоб всяк всякому был равен
Венценосную голову царя Алексея Михайловича переполняло много забот и тревог. Большое беспокойство «Тишайшему» доставил раскол русской церкви. Основным проводником нововведений в толковании канонов веры и в вопросах богослужения был патриарх Никон, ставший главой церкви в 1652 году. В лице нового патриарха, взявшегося твердой рукой привести нормы церковной жизни в России в сообразие с греческими, царь рассчитывал найти опору трону. На первых порах Алексей Михайлович всецело поддерживал Никона и проводимые им реформы. В затеянном Никоном исправлении русских богослужебных книг в строгом соответствии с греческими, в обрядовых преобразованиях боярское правительство Алексея Михайловича видело инструмент, с помощью которого Россия могла бы существенно усилить свое церковно-политическое влияние на Балканах.
Однако непомерно властный и честолюбивый Никон не только не стал оплотом царского престола, но и повел дело так, что чуть не пошатнул самые его основы.
Происходивший из простых мордовских мужиков, патриарх посмел утверждать, что церковь стоит выше светской власти, а стало быть, он, верховный церковный иерарх, выше государя. Так «Тишайший», собиравшийся с помощью церковной реформы обуздать все еще чрезвычайно сильную и строптивую феодальную знать, нежданно-негаданно столкнулся с оппозицией там, где вовсе не предвидел, и мало того вынужден был призвать боярскую аристократию в союзники в борьбе с исступленно отстаивавшим свой приоритет патриархом. Схлестнувшись в яростном споре с царем о месте церкви в государстве, дерзнув усомниться в царском величии, Никон сам вынес себе приговор.
Поместный собор [24] Поместный собор — высший законодательный и административный орган русской церкви.
1667 года осудил его за оскорбление государя и самовольные и своекорыстные действия по управлению церковью. Никон кончал жизнь в ссылке в Белозерском крае простым монахом Ферапонтова монастыря. Но он не смирился и причинял царю немалое беспокойство своими эпистолярными обличениями. «… Если и умертвить прикажет, — писал с беспощадной откровенностью новый чернец Ферапонтовой обители о всесилии «Тишайшего», — то умерщвляют, если прикажет погубить — губят, сокрушить — сокрушают, прикажет строить — строят, прикажет резать — режут…»
Немало треволнений доставили «Тишайшему» и ярые противники никонианской (реформированной при Никоне по греческим образцам. — Авт. ) церкви — раскольники, или старообрядцы. В их лагере оказались как низы, так и верхи тогдашнего общества. Темные, забитые крепостным строем люди под воздействием таких страстных проповедников старой веры, как протопоп Аввакум или Капитон, выступали против нового издания православия, по невежеству и неведению связывая с ним пришедшиеся на тот же хронологический период резкое ухудшение своего положения, усиление крепостнического зажима и даже свирепствовавшие в то время эпидемии. Однако среди староверов были и представители титулованной феодальной знати. Что же общего было между посадским тяглецом или перебивавшимся с хлеба на воду крестьянином и, например, знаменитой боярыней Феодосией Прокопиевной Морозовой — героиней одноименной картины В. И. Сурикова? Пожалуй, только одно — использование раскола как формы выражения своего недовольства. Чем были недовольны угнетенные массы, пояснять не надо. Но встает вопрос: а что же не устраивало верхушку господствующего класса? Во-первых, в новшествах, за которые ратовал Никон, она усматривала ущемление своих интересов, видела угрозу утраты былого влияния в государственных делах, поскольку церковная реформа изначально должна была во многом содействовать усилению самодержавия и, если бы властолюбивый патриарх не повернул по-своему, она бы этому всецело и послужила. Во-вторых, русская аристократия вообще крайне туго, неохотно, а часто враждебно воспринимала что-то новое, предпочитая жить по освященной традициями старине. Особую неприязнь у князей и бояр вызывали какие-либо установления, заимствованные за рубежом, будь то у греков или у немцев. Столь болезненная реакция на проникающие в Россию иностранные элементы опять-таки объясняется устойчивым нежеланием перемен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: