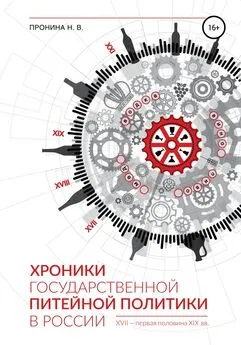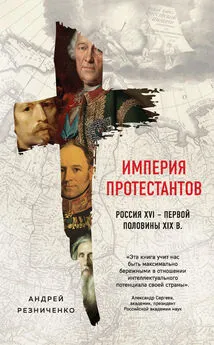Н. Пронина - Хроники государственной питейной политики в России XVII – первая половина XIX вв
- Название:Хроники государственной питейной политики в России XVII – первая половина XIX вв
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Пронина - Хроники государственной питейной политики в России XVII – первая половина XIX вв краткое содержание
В монографии детально рассмотрены вопросы государственно-правового регулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В хронологическом порядке исследована нормативно-правовая база функционирования алкогольной отрасли, сформированная в России за два с половиной столетия. Представлены экономические и социальные последствия государственного регулирования питейного вопроса. В работе отражены и некоторые аспекты современного правого регулирования производства, хранения, перевозки, оптовой и розничной торговли алкоголем.
Издание адресовано научным работникам, студентам, аспирантам, преподавателям вузов, практикующим юристам, всем тем, кого интересуют традиции, особенности, исторические и современные аспекты, касающиеся алкогольной тематики.
Хроники государственной питейной политики в России XVII – первая половина XIX вв - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наиболее распространенным способом обеспечения исполнения обязательств винными подрядчиками и откупщиками в XVII – первой половине XVIII вв. было поручительство третьих лиц, которые отвечали перед казной так же, как винокур и виноторговец, за нарушение контрактных обязательств.
Начиная с XVII века при заключении договора с казной на поставку пития производители обязаны были предоставлять поручные записи [392](позднее – поручные свидетельства) [393]. Поручное свидетельство выдавалось в Ратуше купцам, которые отправлялись в столицу для заключения винного контракта. Закон предписывал в свидетельстве указывать купцу сведения «о своем состоянии, и о пожитках, и о торгах, и какие по них поручики достоверные будут, и по тем их прошениям из Ратуш такие свидетельства за подписанием Бурмистров и нескольких знатных купецких людей им давать, объявляя о том, и не имеют ли они на себе многих казенных и партикулярных людей долгов, самую правду без всякого опасения; а буде который подрядчик хотя о поруках свидетельства с собою и не привезет, а в том месте, где подряжался, достоверных порук поставить может: то из таковых в подряд и к торгу допускать» [394].
Поручители «ручались не инако, как знавь подрядчиков или поставщиков или откупщиков доброе, порядочное и исправное состояние, и чтоб те подрядчики или поставщики или откупщики, кои иногда прежде были в подрядах или поставках или откупах казенных, о исправном выполнении своих контрактов или письменных договоров, (буде явится) имели при себе отписи или отписки от тех мест, где по договору своему исправностью оказались достойны доверия и до коликой суммы» [395]. Они обязаны были смотреть, чтобы винокур исполнял принятые обязательства, следить, не нарушается ли контракт, и сообщать обо все отступлениях от договоров в Камер-Коллегию; а также контролировать, « ежели из них кто умрет, а они по порукам своим еще не исправны, то им о том доносить в Камер-Коллегии, а в городах Губернаторам и Воеводам» , для того чтобы своевременно было обращено взыскание на имущество умершего [396].
В подтверждение исполнения винного контракта в полном объеме подрядчик или поручитель могли получить от властей опись или аттестат, подтверждающий отсутствие к ним финансовых претензий. Казна, пытаясь защитить свои финансовые интересы, рассчитывала не только на клятвы виноторговца, за откупщика тоже давались поручные записи [397].
Начиная с XVIII века для участия в откупных торгах купец обязан был иметь из ратуши (где проживал) документ (свидетельство) за подписью бурмистров, подтверждающий его благонадежность, а именно: состояние, имущество, долги и тому подобное [398]. В случае неисполнения откупщиком своих обязательств перед казной свидетельство позволяло привлечь к ответственности тех, кто этот документ выдал, и обратить взыскание откупных недоимок на них. Со второй половины XVIII века виноторговцы, которые хотели вступить в откупа, должны были иметь аттестат «от своего Магистрата и Ратуши» с указанием «до какой суммы ему верить можно» [399]. В аттестате указывалось, что желающий быть винным продавцом « в худых поступках не замечен, не за что судим и наказан не был, казенные и общественные повинности отправляет бездоимочно, и что к содержанию питейного дома допущен может быть» [400]. Крестьянам казенным или удельным подобный аттестат выдавало их начальство, а помещичьим крестьянам – помещики или управители [401].
В XIX веке перечень требований, которые предъявлялись к лицам, выступавшим поручителями по обязательствам откупщиков, был конкретизирован. Поручителями по одному контракту могли быть не менее двух купцов первой и второй гильдий, которым в подтверждение их обязательств Городской Думой выдавался отдельный документ – ручательство [402].
Другим важным способом обеспечения исполнения контрактных обязательств, получившим особое распространение в XVIII века, стал залог. В залог принималось имущество (а также имения и заводы) подрядчиков и откупщиков [403]. Производители и виноторговцы обязаны были предоставить казне в залог имущество, начиная с 1742 года [404], стоимостью не менее 1/3 от цены контракта (1/3 от стоимости поставляемого вина для производителей и 1/3 от откупной суммы – для винных продавцов) [405]. Были нередки случаи, когда обеспечительное имущество откупщиков передавалось в залог по весьма завышенным ценам, а при обращении взыскания оказывалось, что стоимость его совсем не велика, и более того, нередко объект залога вообще не могли найти. Например, откупщик Евреинов не внес в казну около 4 000 000 рублей, но когда с него решили эту сумму взыскать, то оказалось, что его имущество и капиталы просто куда-то исчезли [406].
В XIX веке круг объектов, которые могли быть переданы в залог, был существенно расширен. В частности, в залог по откупным контрактам принималось: движимое и недвижимое имущество; свидетельства от военных департаментов, по расчетам разным частным людям выданным, на получение от Министерства финансов денежных средств; наличные деньги; билеты казенных банков – Заемного и Коммерческого; билеты Комиссии погашения долгов на капиталы, внесенные в государственную долговую книгу; акции Росийско-Американской компании; акции первого и второго Российских страховых от огня обществ; билеты Финляндских общественных заведений и Лифляндских, Эстонских и Курляндских кредитных касс; облигации второго из Польских займов; акции общества страхования пожизненных доходов и разных капиталов; акции Харьковской компании для торговли шерстью; паи Товарищества Страхового от огня Общества Саламандра; паи компаний Морского, Речного и Сухопутного страхования под фирмой; акции освещения газом в С.-Петербурге; акции Царскосельской железной дороги; акции общества «Меркурий» [407].
Порядок принятия и оценки всех объектов залога прописывался в нормативных актах [408]. К примеру, проверку документов и оценку зданий и строений проводили специально уполномоченные архитекторы, которые выдавали заключение (акт) о стоимости и состоянии капитального строения, впоследствии утверждаемое Городской Думой [409]. Все объекты принимались в залог только при условии, что они были застрахованы от огня в надлежащих российских страховых обществах [410].
Населенные имения принимались в залог в соответствии с установленной государством стоимостью ревизионной души. В частности, в соответствии с Уставом о питейном сборе и акцизе в губерниях первого разряда, к которым относились С.-Петербургская, Московская, Нижегородская и другие, каждая ревизионная душа оценивалась от 75 до 85 рублей серебром; в губерниях второго разряда – Калужской, Владимирской, Тверской и других – стоимость составляла 75 рублей серебром; а в губерниях третьего разряда – Вятской, Новгородской, Архангельской и других – соответственно 65 рублей [411].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: