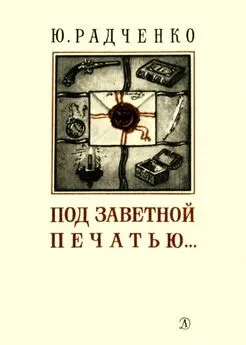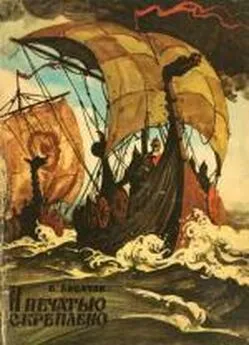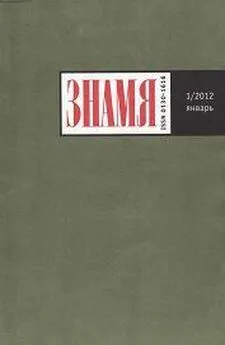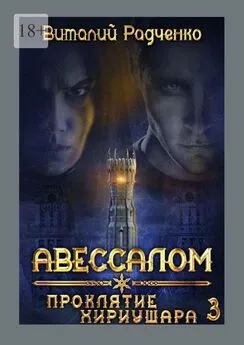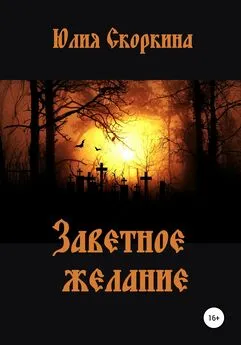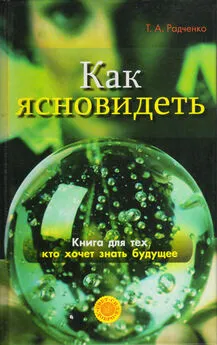Юлия Радченко - Под заветной печатью...
- Название:Под заветной печатью...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детская литература
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Радченко - Под заветной печатью... краткое содержание
Под заветной печатью... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Немало, очевидно, знающий про потаенную историю мавзолея, но робеющий перед богатейшими и влиятельными прихожанами, епископ заверяет столичное, более высокое духовное лицо, что «совершенно удален от того, чтоб желал чрез сие причинить какое-либо г. Шелиховой неудовольствие».
Митрополит Амвросий, получив запрос, тоже ни на что не решился. В ту пору решал один человек: император Павел. К тому же этот царь не раз откровенно называл именно себя «главою церкви»; случалось даже, руководил богослужением в особом священном одеянии: давно уже российская православная церковь была полностью подчинена всесильному владыке, который изредка, в хорошие минуты говаривал, что дела в России делают только двое — он сам да его первый помощник генерал-прокурор.
Именно поэтому к могущественному генерал-прокурору Петру Обольянинову и обращается Амвросий 19 июля 1800 года.
Обольянинов, по должности, быстро сориентировался и обнаружил близкого родственника Шелиховых в одном городе с собою: Николай Петрович Резанов, правитель дел только что утвержденной Российско-Американской компании, человек, весьма интересный генерал-прокурору и другим персонам своим богатством, влиянием, щедростью (в будущем первый посол Российского государства в Японии).
Обольянинов попросил у Резанова рисунок монумента, сибиряк же отвечал довольно нервно, а если представить, каковы были политические нравы в павловском Петербурге и как страшен и могуч был в ту пору Петр Хрисанфович Обольянинов, тогда догадаемся и о силе господина Резанова:
«Милостивый государь Петр Хрисанфович!
Из почтеннейшего отношения Вашего Высокопревосходительства, в коим изволите требовать рисунки монументу Шелиховскому, вижу я, что зависть иркутских купцов и недоброхотов к нам (и) в дружбе с ними пребывающего тамошнего епископа Вениамина представили сей родственный подвиг совсем в другом правительству виде. Первое, что это не монумент, а мавзолей, каковых здесь в Невском монастыре множество, а в Иркутске, конечно, это первый.
Второе, что ставится не на площади и не в городе…
Третье, что оно делает украшение и монастырю и будет в потомстве памятником российской предприимчивости».
Подробно описав памятник и не забыв упомянуть об огромной его стоимости, Резанов заключает:
«Издержка сия есть жертва нашей благодарности. Впрочем, когда в иностранных государствах ставят великим мужам, как то писателям, музыкантам и художникам публичные монументы, то неужели сей росс, приведший в подданство многие народы, не заслуживает никакого на могиле своей надгробия?»
Резанов просит Обольянинова, «разреша недоумие злобствующих невежд, осчастливить наше семейство. Впрочем, и самый монастырь, в котором погребен тесть мой, получил от нас знатную ссуду, кроме поправок, сделанных нами, как-то каменной ограды и т. п.».
Через день, 23 июля 1800 года, Обольянинов уже докладывал императору.
Вероятно, он представил дело аккуратно и осторожно: если бы Павел нашел (а это легко могло случиться), что рыльскому купцу приписываются чуть ли не царские доблести, если бы Павел вник, что в надписях на памятнике неоднократно восхваляются деяния ненавистной ему матушки Екатерины, мог бы разразиться высочайший гнев, и — не быть памятнику!
Однако обошлось.
Обольянинов — Вениамину иркутскому:
«Я имел счастие докладывать государю императору и получил высочайшее его императорского величества повеление надгробие то поставить».
Так, благодаря удачному стечению обстоятельств, сохранился прекрасный обелиск, «выше алтаря».
Постепенно затухали, стирались, исчезали страсти, расчеты, вызвавшие его появление. Через десять лет, в 1810 году, окончила свои дни Наталья Алексеевна Шелихова в другой части света — в Москве. (Как видно, ей невозможно было оставаться в Иркутске.)
Пройдут еще десятилетия, и за оградой монастыря появятся скромные, незатейливые могилы декабристов и декабристок.
Невдалеке от них — памятник Шелихову, необыкновенный и своей историей, и формой. Памятник глядевшему через десятилетия и века, размышлявшему (как и Герцен через 60–70 лет) о Тихом океане как «Средиземном море будущего». Нелегко было человеку, обгонявшему свой век: слишком далеки расстояния, слишком неповоротлива самодержавная машина, крепостное право тормозило торговые и промышленные начинания, церковь ревниво следила за «чрезмерными» успехами просвещения. Победило, осталось главное: славное дело, могучий дух Шелихова преодолели в веках дрязги купеческие, семейные, наветы церковные…
Живет память об удивительном человеке. Его именем назван молодой город неподалеку от Иркутска; залив Шелихова — в Охотском море; пролив Шелихова — в северо-восточной части Тихого океана.
В горделивом иркутском монументе сошлись география и поэзия, история и разнообразные человеческие страсти — «пламя плящее»…
«Коломб здесь росский погребен…»
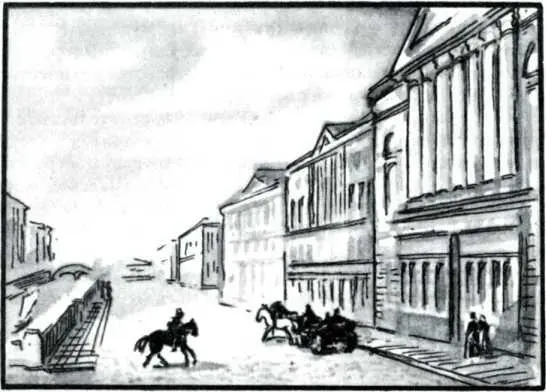
«ПОД ЗАВЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ…»
«Зевеса нет, мы сделались умней»
Пушкин «Гавриилиада»
Летом и осенью 1903 года на страницах нескольких русских журналов и газет разгорелись страстные споры, закончившиеся довольно резкими выпадами.
Молодой, но уже набиравший силу поэт Валерий Брюсов напечатал в журнале «Русский архив» статью об одной загадочной поэме Пушкина. В ответ на него обрушились сразу несколько противников.
Журналист, скрывавшийся под псевдонимом «Стародум», воскликнул: «Некто Валерий Брюсов избрал себе специальность чернить память Пушкина!»
Другой автор одернул Стародума: «Этот псевдоним избрал себе, по-видимому, Митрофанушка…»
Третий высказывался более вежливо, но притом находил «неопровержимые доказательства» тому, что Брюсов заблуждается, что поэма Пушкину не принадлежит…
Поэма «Гавриилиада».
Мы присутствуем при давней дискуссии, разыгравшейся примерно на «одинаковом расстоянии» между временами пушкинскими и нашими, сегодняшними.
Тогда, в 1903-м, казалось, загадки «Гавриилиады» не скоро будут разгаданы. С тех пор многое, очень многое раскрыто. Но все ли?
Ленинград 1970-х годов. Набережная адмирала Макарова, дом 4. Некогда здесь помещалась таможня. Желтое здание с белыми колоннами, с башенкой наверху было построено архитектором Лукини в 1829–1832 годах. Значит, Пушкин не раз проходил мимо него, он ведь любил гулять по набережным Невы. Сегодня здесь расположился Институт русского языка и литературы Академии наук СССР, гордо и кратко именуемый Пушкинским домом. В этом здании, в особом помещении, хранятся все рукописи Александра Сергеевича. Выдают их редко, по особому разрешению…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: