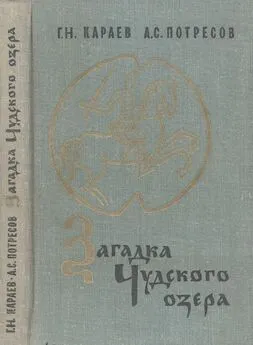Георгий Караев - 60-я параллель
- Название:60-я параллель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство детской литературы Министерства Просвещения РСФСР
- Год:1955
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Караев - 60-я параллель краткое содержание
«Шестидесятая параллель» как бы продолжает уже известный нашему читателю роман «Пулковский меридиан», рассказывая о событиях Великой Отечественной войны и об обороне Ленинграда в период от начала войны до весны 1942 года.
Многие герои «Пулковского меридиана» перешли в «Шестидесятую параллель», но рядом с ними действуют и другие, новые герои — бойцы Советской Армии и Флота, партизаны, рядовые ленинградцы — защитники родного города.
События «Шестидесятой параллели» развертываются в Ленинграде, на фронтах, на берегах Финского залива, в тылах противника под Лугой — там же, где 22 года тому назад развертывались события «Пулковского меридиана».
Много героических эпизодов и интересных приключений найдет читатель в этом новом романе.
60-я параллель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Батька, поп, отец Петр даже смотреть не любил в его сторону: четыре года проучился у него Кокушёнок, и можно гарантию дать — с год простоял на коленях около печки «за дерзновение, за суеговорение, за думание, за неподобающий спрос!»
— «Я думаю, я думаю!» — рычал на него батька. — Думают, Спиридоненок, только индейские петухи... — Но у отца Петра на его подворье даже индюки не думали: не до того было!
А чего индюкам думать: сегодня покормили, завтра покормили, и послезавтра — под нож! Одного такого петуха, самого красивого, самого злого, Васька как-то наловчился и пристрелил сквозь поповскую крапиву из рогатки; очень уж он походил на самого отца Петра... Даже сейчас комендант Кокушкин удовлетворенно крякал, вспоминая, как шумел на крыльце поп, как истошно вопила поповская стряпка, как заливались поповские псы... Виновника не нашли, и отец Петр долго сердился на коршуна, который, видно, хотел утащить курана, но «не задолел» и только разбил ему с досады голову.
А потом, — оттого ли, что Василий Кокушкин вырос крепче и суровее своих односельчан, по другим ли причинам, председательствовавший в уездном воинском присутствии полковник сделал на его мужицком паспорте пометку «Ф». Пометка означала: годен на флот.
Удивительное это дело, как оно тогда выходило! По-настоящему рассудить, тогдашним правителям таких, как Василий, — «с дерзновением, с суеговорением, с думанием», — надо было бы за сто верст держать от флота, от моря, — а не получалось у них это! Из Костромской, из Рязанской, из Псковской губерний, из Питера, с Подмосковья все полковники, точно сговорившись вырыть себе же яму, посылали в Кронштадт, в Севастополь как на подбор таких, как он, — самых крепких, самых решительных, самых мускулистых парней. И они, собираясь в экипажах, приносили туда с собой каждый свое, но все — одинаковое: этот — ненавистного попа, тот — проклятого урядника, еще один — кулака-погубителя, разорившего всю семью, барина, который отсудил вековечные деревенские нивы, купца первой гильдии, сгноившего полволости на водоливной работе... У каждого было это свое; но они это свое слагали все вместе в долгие часы задушевных матросских бесед как в один общий трюм. И из них вырастало уже не «свое», а народное; такая страшная жизнь за спиной, такая лютая злоба к ней, что даже скулы начинало ломить, то ли от жалости к людям, то ли от ненависти к их мучителям.
Удивительное дело: как же не видели этого царские министры, генералы, адмиралы, разные господа?.. Всё они видели, да податься им было некуда: не погонишь на корабли, в буйные штормы, в соседство огромных машин, на тяжкую моряцкую работу ни белоручек барских сынков, ни таких деревенских простаков, каких забривали тогда в пехоту!..
Долго плавал на судах Российского императорского флота матрос разных статей Василий Спиридонов Кокушкин. Хорошо плавал, видел многое.
Еще нынешний его дружок Фотий Соколов пешком под стол ходил, а он уже гулял под пальмами Коломбо, любовался на животастых беломраморных идолов в Пенанге и Сайгоне, качал головой при виде стройных, точно под орех раскрашенных, рикш-сингалезов, дышащих на бегу, как запаленная лошадь; на негров, словно отлитых из шоколада и недоверчиво поглядывающих в сторону белого; на китаянок, таких же золотисто-смуглых и загадочноглазых, как теперь вот эта девушка Ланэ.
Командиры кораблей взирали на матроса Кокушкина со смешанным чувством. По всем данным — по могучей мускулатуре, по суровости молодого строгого лица, а еще больше по отличному несению корабельной службы — давно можно было бы его сделать боцманом. Но, заглядывая в зрачки могучего этого человека, присматриваясь к его резко очерченным бровям, прислушиваясь к ответам на офицерские вопросы, точным, коротким, — не придерешься! — но уж слишком каким-то спокойно презрительным, они каждый раз говорили себе: «Нет! Не тот материал! Кто только разберет, что у него за душой?»
Теперь Василий Кокушкин иной раз даже радовался тому, что так оно получилось. Мало ли было на кораблях отличных ребят, которых, по слабости их душевной, по темноте, сбивала с пути, портила, вербовала в барские холуи и всячески развращала офицерская лукавая ласка...
Был один момент: большая опасность прямо по носу! Понадобился образцовый, рослый боцманмат на царскую яхту «Штандарт»: боцманмат с красивым голосом; и чтоб голос этот был баритоном. Смешно сказать: из всего флота все приметы сошлись на матросе Кокушкине. Были братки — завидовали ему: вот так подфартило! Но в эти именно дни и пришел к нему на разговор один товарищ... Первый настоящий «товарищ», которого ему послала на дороге судьба среди «братков» да «земляков» с одного бока, среди «господ» с другой.
Долгий был у них тот разговор, там, за Кронштадтом, на болотистой луговине, в месте, которое на Котлине-острове называется «Шанцами». И хотя в последний момент, видимо, без того заподозрили что-то царские ищейки, и баритону Василия Кокушкина так и так не пришлось бы разноситься над лощеной палубой царской яхты, — этот разговор во многом переменил его жизнь.
Может быть, верно: флотские соглядатаи усумнились в матросской душе. А может статься, подействовало другое: в конце августа того года Василий Кокушкин разговаривал с товарищем Железновым (конечно, это была не настоящая его фамилия), а в октябре он уже смотрел на сердитую волну неприютного Северного моря с борта линейного корабля «Бородино»; в составе второй Тихоокеанской эскадры адмирала Рожественского корабль шел к далеким берегам Японии...
Наступил черный день Цусимы. Проданный и преданный своими высшими командирами русский флот, смешав горячую кровь матросов с солеными водами Тихого океана, ушел на морское дно. Великая отвага сынов народа не помогла в последнем бою. Видно, только морской бог Нептун пронес мимо Василия черное бремя вражеского плена: прорываясь во Владивосток, крейсер «Аврора» подобрал шлюпку, в которой вторые сутки болтались по волнам Кошевой, Ершов, Эйконнен и Кокушкин, — четверо случайно спасшихся матросов, не желавших сдаваться победителям.
Так на Дальнем Востоке и отблистали для Василия видимые издали зарницы девятьсот пятого года. Не пришлось ему тогда подойти поближе к великому народному делу: счастье стать революционером выпадало в те дни не каждому, не так уж часто и просто. В Петербург матрос Кокушкин попал только в лихое безвременье, в восьмом году, когда вышел срок его флотской службы.
Тут негромко и не очень радостно сложилась его жизнь. Он кое-как устроился шкипером на маленький прогулочный пароходик купца Щитова; возил по праздникам и в будние дни небогатую, но всё же «чистую» публику с Васильевского острова то на Охту, то на Крестовский — отдыхать. Работа была не слишком трудная, но какая-то нудящая душу: каждый день — одно! Те же свинцовые волны под деревянными и железными мостами, то же поминутное: «Малый ход!», «Ход вперед!», которое передавал в машину рупор... Однако если человек сохранил на плечах голову, если он ходит, ездит, плавает по огромной царской столице, если у него есть острые глаза и ясный ум, то многое он и тут увидит, многое начнет по-настоящему понимать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
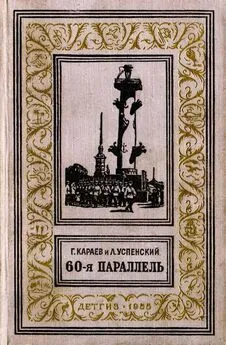
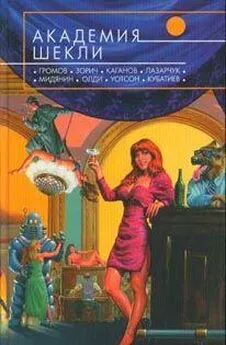

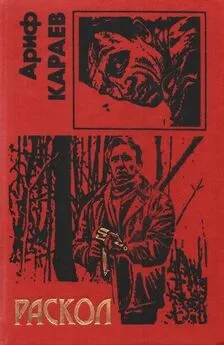
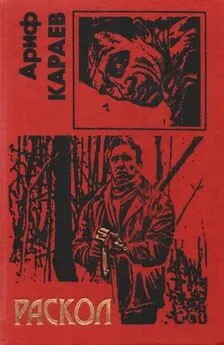
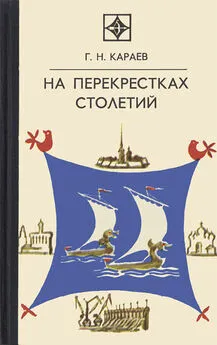
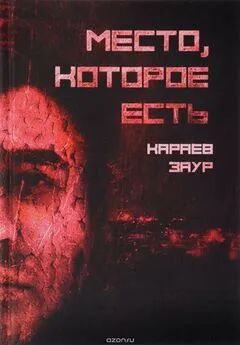
![Георгий Караев - Путём Александра Невского [Повесть]](/books/1068737/georgij-karaev-putem-aleksandra-nevskogo-povest.webp)