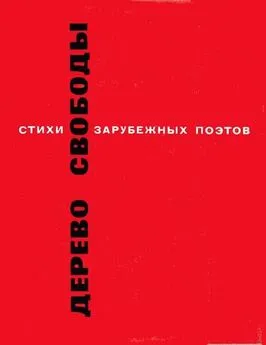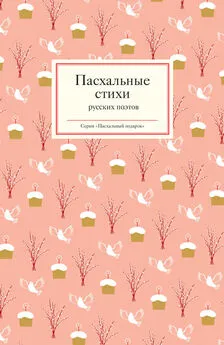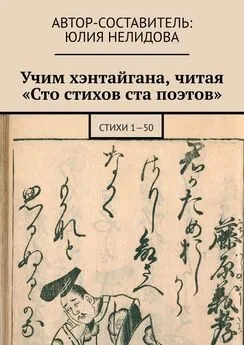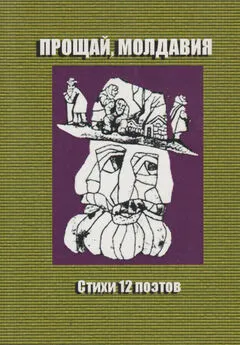Роберт Бёрнс - Дерево свободы. Стихи зарубежных поэтов в переводе С. Маршака
- Название:Дерево свободы. Стихи зарубежных поэтов в переводе С. Маршака
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберт Бёрнс - Дерево свободы. Стихи зарубежных поэтов в переводе С. Маршака краткое содержание
Печататься начал с 1907 года.
Воспитанный В. В. Стасовым и М. Горьким, Маршак много сделал для советской детской литературы. М. Горький называл его «основоположником детской литературы у нас».
Первые переводы С. Я. Маршака появились в 1915–1917 гг. в журналах «Северные записки» и «Русская мысль». Это были стихотворения Уильяма Блейка и Вордсворта, английские и шотландские народные баллады.
С тех пор и до конца своей жизни Маршак отдавал много сил и энергии переводческому искусству, создав в этой области настоящие шедевры. Его переводы Шекспира, Блейка, Бернса, Китса и других английских поэтов, а также переводы из Гейне при удивительном сохранении особенностей подлинника явились, по выражению А. Фадеева, «фактами русской поэзии».
В 1961 году вышла книга статей и заметок Маршака «Воспитание словом», в которой поэт наряду с другими проблемами литературного мастерства глубоко и всесторонне остановился на особенностях переводческого искусства.
С. Я. Маршак был лауреатом нескольких Государственных премий. В 1963 году ему была присуждена Ленинская премия за книгу «Избранная лирика».
Дерево свободы. Стихи зарубежных поэтов в переводе С. Маршака - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Собственно, Маршак был первым советским поэтом, для которого перевод стал главным делом жизни: не увлечением и развлечением, не средством дополнительного заработка и, уж во всяком случае, не отдыхом от тех или иных бурь времени и превратностей судьбы. «Переводил я не по заказу, а по любви», — признавался он в своей автобиографии… [6] С. Маршак. Собр. соч. Т. 3, М., «Художественная литература», 1969, с. 749.
Сошлюсь на слова Корнея Ивановича Чуковского из его книги «Высокое искусство»:
«Вообще как-то странно называть Маршака переводчиком. Он скорее конкистадор, покоритель чужеземных поэтов, властью своего дарования обращающий их в русское подданство. Он так и говорит о своих переводах Шекспира:
Я перевел Шекспировы сонеты.
Пускай поэт, покинув старый дом,
Заговорит на языке другом,
В другие дни, в другом краю планеты».
Превыше всего в Шекспире, как и в Блейке и в Бернсе, он ценит то, что они все трое — воители, что они пришли в этот мир угнетения и зла для того, чтобы сопротивляться ему:
Недаром имя славное Шекспира
По-русски значит: потрясай копьем.
«Потому-то и удалось Маршаку перевести творения этих „потрясателей копьями“, — пишет далее К. И. Чуковский, — что он всей душой сочувствовал их негодованиям и ненавистям и, полюбив их с юношеских лет, не мог не захотеть, чтобы их полюбили мы все — в наши советские дни, в нашем краю планеты…» [7] К. Чуковский. Высокое искусство. М., «Искусство», 1964, с. 204–205.
В читательском сознании имя Маршака неразрывно связано как с его собственными, ставшими хрестоматийными стихами, на которых выросло уже несколько поколений читателей, так и с его переводами. Действительно, трудно провести грань, отделяющую Маршака-поэта от Маршака-переводчика: настолько маршаковские переводы отмечены неповторимостью его творческой личности, индивидуальностью его почерка, одному ему присущей интонационной манеры. Как не узнать руку Маршака в знаменитом переводе из Бернса?
Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.
При всем, при том,
При всем, при том,
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами.
Однако кто не почувствует незримое присутствие переведенных Маршаком его поэтических побратимов в стихах самого Маршака?
Все те, кто дышит на земле, —
При всем их самомнении, —
Лишь отражения в стекле,
Ни более, ни менее.
Каких людей я в мире знал,
В них столько страсти было,
Но их с поверхности зеркал
Как будто тряпкой смыло
Я знаю: мы обречены
На смерть со дня рождения.
Но для чего страдать должны
Все эти отражения?..
Когда на обложках многих переводческих книг Маршака имя переводчика стояло надименем автора, то это не было просто привилегией прославленного мастера, а отражением самого существа его работы.
Однако пора хотя бы в нескольких словах пояснить, что мы понимаем под «неповторимостью творческой личности» и «индивидуальностью почерка» Маршака, иначе говоря, попробовать вкратце охарактеризовать его поэтические пристрастия и особенности, а также задачи, которые он перед собой ставил.
Публикуя свои первые переводы из Блейка в журнале «Северные записки» (1915 и 1916 гг.), Маршак предпослал им небольшое введение, из которого достаточно отчетливо видно, что в английском поэте, с которым он не расставался до конца своих дней, его привлекало прежде всего «живое… чувство природы, простота и ясность форм, глубина мистицизма и смелость воображения…» [8] С. Маршак. Собр. соч. Т. 3, с. 789.
.
Много позже (в 1958 г.), говоря о другом поэте — о Гейне, — Маршак подчеркнул его «близость к народной песне» и то, что Гейне «в своих сложных лирических стихах чудесно сохраняет характер безыскусной, непосредственной, даже наивной детской песенки…» [9] Там же. Т. 4, с. 628.
.
Именно эти свойства, подмеченные им в Блейке и в Гейне, в полной мере присущи и Маршаку — поэту и переводчику.
Ошибется тот, кто вознамерится отделить в переводах Маршака «простоту и ясность форм» от «глубины мистицизма», «близость к народной песне» от «смелости воображения», сложность от безыскусности: достаточно вспомнить такие разные, непохожие друг на друга, но принадлежащие одномувладельцу переводы, как сонеты Шекспира, «Тигр» и «Хрустальный чертог» Блейка, «Старую дружбу» и «Финдлея» Бернса, «Расставание» Байрона и «У моря» Теннисона, «К Миньоне» Гёте и «Дом, который построил Джек» из английской народной поэзии для детей, руны «Калевалы» и эпиграммы и шуточные эпитафии английских и шотландских поэтов.
Один этот перечень уже говорит о многом.
Но Маршак не был бы Маршаком, если бы, открывая русскому читателю поэтов разных времен и народов, ограничился бы чисто просветительскими или формальными задачами, а не преследовал ту главную цель, о которой он писал в связи с переводами сонетов Шекспира:
«Не в передаче стилистических архаизмов я видел свою задачу, а в сохранении того живого, что уцелело в сонетах до наших дней, что, конечно, переживет нас, наших детей и внуков…» [10] С. Маршак. Собр. соч. Т. 3, с. 753.
Но все это невозможно было бы осуществить, если бы Маршак в своих переводах лишь «консервировал» традиции классиков, не пользуясь всеми достижениями и открытиями новейшей русской поэзии, вплоть до Хлебникова и Маяковского.
Материю песни, ее вещество
Не высосет автор из пальца.
Сам бог не сумел бы создать ничего,
Не будь у него матерьяльца.
Маршаку принадлежит еще одна заслуга. Как никто другой до него, он средствами русского стиха умел создавать как бы «портреты» тех языков, с которых он переводил. На эту особенность впервые обратил внимание А. Т. Твардовский, писавший, что в своих переводах Маршак «сделал Бернса русским, оставив его шотландцем. Нигде не найдешь ни одной строки, ни одного оборота, которые бы звучали, „как перевод“, как некая специальная конструкция речи, — все по-русски, и, однако, эта поэзия своего особого строя и национального колорита, и ее отличишь от любой иной…» [11] А. Твардовский. О переводах С. Я. Маршака. (См.: С. Маршак , Собр. соч. Т. 3, М., Гослитиздат, 1959, с. 789.)
.
И верно: читая его англичан, мы никогда не спутаем их ни с немцами, ни с французами, ни с итальянцами.
…В твоих горах ютился дом,
Там девушка жила.
Перед английским очагом
Твой лен она пряла.
Твой день ласкал, твой мрак скрывал
Ее зеленый сад.
И по твоим полям блуждал
Ее прощальный взгляд…
Не многие путевые очерки дадут нам возможность так почувствовать Англию, как эти написанные по-русскистихи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: