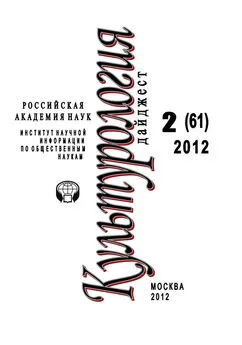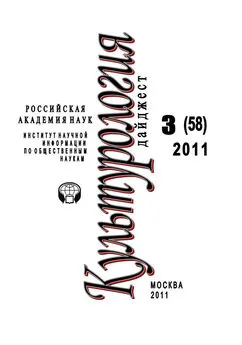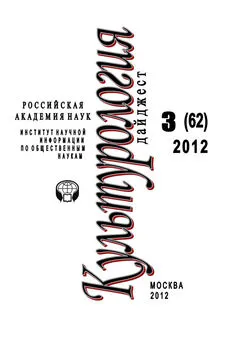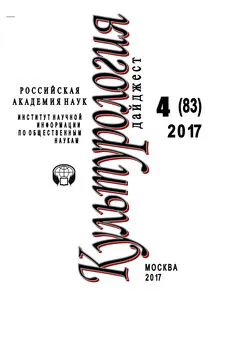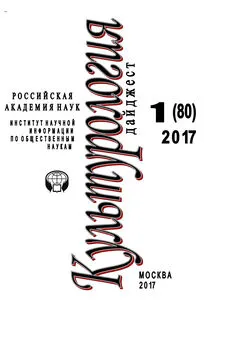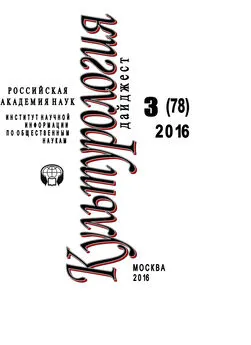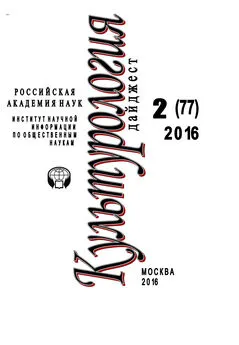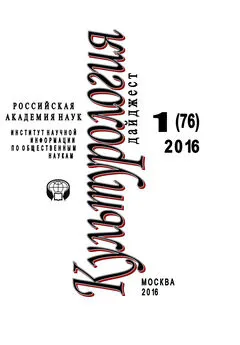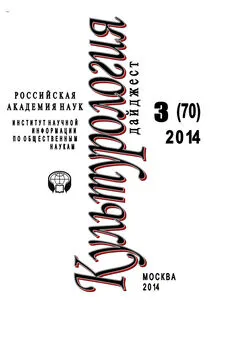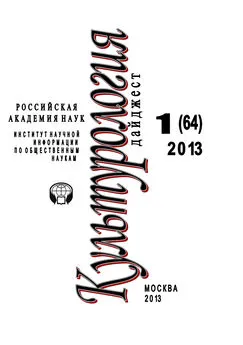Светлана Левит - Культурология: Дайджест №2/2012
- Название:Культурология: Дайджест №2/2012
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:2012-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Левит - Культурология: Дайджест №2/2012 краткое содержание
Культурология: Дайджест №2/2012 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К первым, так называемым речевым актам, относятся, в частности, императивные приказы, просьбы, советы. По их количеству лирика Ахматовой «не уступает футуристической и советской поэзии, питавшей слабость к повелительному наклонению» (с. 69). По принципу речевого акта организованы целые стихотворения Ахматовой, например «Молитва» (1915): «Дай мне горькие годы недуга <���…> / Отыми и ребенка, и друга <���…> » и т.д.
В свою очередь, физические жесты делятся на: 1) целенаправленно коммуникативные, часто очень изощренные, например взывающие об ответной реплике («Ты только тронул грудь мою, / Как лиру трогали поэты»); 2) симптоматические, «невольно» выдающие внутреннее состояние персонажа через внешние проявления («Я на левую руку надела / Перчатку с правой руки») (с. 55).
Все мизансцены ахматовского спектакля «призваны выпятить игру примадонны, отведя ее партнеру, если таковой появляется, роль статиста. В плане женских хитростей это можно сравнить с известным в театральной практике казусом, когда звезда, узурпируя режиссерские функции, “отбирает” мизансцену у партнера» (с. 55).
В качестве режиссера и художника-декоратора своего театра Анна Ахматова создает для себя «телесный костюм», учитывающий, помимо ее внешних данных и возможностей, предоставляемых сценарием, ее жизненное амплуа – «женщины-вамп» (типа Марлен Дитрих), смутного объекта/жертвы мужских желаний. К нему подбирается особая моторика (легкая походка; дисциплинированное тело, «знающее» правила этикета), жестовый код (неброский, но коммуникативно нагруженный), тихий голос. Все это служит фоном для ярких эмоциональных проявлений («природных» жестов, стихов-песен, криков, замирания жизни и ее всплесков) (с. 56).
Под телесный костюм героини подбирается партнер – светский красавец, знающий этикет или вызывающе нарушающий его, часто дон-жуан, садист или ревнивец, удостоверяющий ее эротичность и желанность. Одно из типовых режиссерских решений – смена «живого» костюма «мертвенным» (больной, умирающей, отпеваемой, хоронимой), предполагающим соответствующие позы, в качестве партнеров – неадекватно реагирующего возлюбленного, бесчувственную толпу и неравнодушную природу, а в качестве двойников – знаменитых мертвецов (например, княжну Евдокию). «В роли примадонны Анне Ахматовой важно разыграть сценарий максимально натуралистично, как если бы он был частью ее собственного опыта» (с. 56).
«Претворяя спектакль в стихи, Анна Ахматова искусно прикрывает свои нарциссические манипуляции, применяя разного рода “обходные” маневры, в частности искусство монтажа, принесенное кинематографом. В роли монтажера она “разбавляет” собственное присутствие гномическими сентенциями и пейзажными панорамами» (с. 56).
К.В. ДушенкоО ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ» АННЫ АХМАТОВОЙ 16 16 Гончарова Н. О так называемых «дневниковых записях» Анны Ахматовой // Вопросы литературы. – М., 2011. – Май-июнь.– С. 327–357.
Советская эпоха не слишком располагала к ведению дневников. Это могло легко навредить автору и тем, о ком он писал. На всем протяжении истории России от Пушкина до ахматовского поколения эта ситуация повторялась неоднократно. Но у Ахматовой причиной неведения дневника был не только страх. Неприятию этого жанра способствовали личностные установки Ахматовой, воспитанной в викторианскую эпоху незыблемых норм поведения во всех сферах жизни. Она была «дама» – непроницаемая, сдержанная, закрытая, любезная и корректная со всеми. Маска светскости и хорошие манеры надежно защищали ее лицо от излишней открытости и чужой бесцеремонности.
Для Ахматовой личные записи – это разрыв в броне личности. Дневник в ее понимании – лазейка, обнажающая тайны своего создателя. Благовоспитанность, усвоенная с детства, заставляла Ахматову «засупониваться», отмеривать каждый шаг, чтобы в прозе не выдать себя.
Она не вела дневника, как пытаются доказать некоторые исследователи. Мы имеем дело с записями дневникового характера, разбросанными в рабочих тетрадях, в которых прорывается нечто личное.
В записных книжках Ахматовой много записей сугубо делового характера. Среди них нет ничего лишнего, что могло бы кому-то повредить. Зато есть обиняки, намеки, обрывки фраз, в которых все полусказано, полуутаено.
Так устроен ахматовский мир, что в нем нет важного и неважного, значительного и проходного: все исполнено тайного смысла, пусть даже скрытого. В этом мире все имеет непосредственное отношение к поэту, причем раз начавшись, тема часто находит отзвуки в дальнейших записях.
Море, символ бесконечности; тут же мотив молитвы; больница, которая для старого и больного человека может стать последней; а все в целом – смерть, стоящая рядом. Разговор о серебре связан со смертью и символикой зимы – зима тождественна смерти.
На первый взгляд записки Ахматовой – чисто дневниковые записи о конкретных впечатлениях, но в их контексте автором создается как бы второй план реальности, о котором она не говорит прямо, но подразумевает его как бы для себя. За внешним слоем разговоров и беглых записей впечатлений и воспоминаний встает порой слабо обозначенный глубинный слой, в котором преобладает философский мотив смерти, размышляется о предстоянии ей. Это уже не просто дневниковая фиксация событий, фактов и мыслей; это сложно организованная проза, созданная по своим собственным законам. Появляется начало, представляющее собой уже не фиксации мелькнувших впечатлений, но их поэтическое бытие, претворенное в слово.
Особое место занимает в творчестве Ахматовой музыка. Музыка для Ахматовой – некий высший пласт чистого бытия, освободившегося от быта, мелких деталей повседневности, необходимостей, последовательностей. Она становится выходом в чистую эмоцию, напряженную жизнь души, которая, в свою очередь, выражается в поэтическом или прозаическом тексте. Немецкая классическая философия прошла мимо Ахматовой, обогатив ее творческие представления о мире классическим ницшевским образом «духа музыки», ставшим значительным для молодой Ахматовой.
Однако свои представления о духе музыки как первопричине поэзии она черпала из другого, гораздо более близкого ей источника – французской поэзии. Мысль Малларме о том, что «музыкальность всего» лежит в основе творческого восприятия мира, была близка Ахматовой.
Ахматовский прозаический текст, в том числе и дневниковые записи, живет по законам поэзии, и нужно читать его не в словах, но в их сочетаниях, ритмической организации, промежутках между ними.
Дневниковые записи Ахматовой пронизаны музыкой и ритмом. Ритм образуется подтекстами, стоящими за словами. Повторение мотива серебра и его тайные смыслы, подразумевающие эсхатологию, создают глубину поэтического образа, для которой неважно, воплощен ли он в стихотворном или прозаическом слове. Это «синие огоньки под текстом», о которых говорила Ахматова, возникающие во внутреннем пространстве текста и превращающие описание в переживание, выводя через него читателя в некий высший пласт осмысления художественного текста.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: