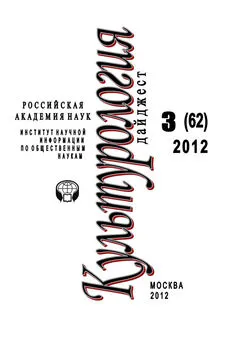Ирина Галинская - Культурология: Дайджест №3/2012
- Название:Культурология: Дайджест №3/2012
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:2012-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Галинская - Культурология: Дайджест №3/2012 краткое содержание
Культурология: Дайджест №3/2012 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
П.А. Флоренский писал в середине 20-х годов ХХ столетия в работе «Имена» о важности для писателя выбора имени героя. Ведь и в светской, и в религиозной культуре понятие «имя» связано с понятиями «познание и самопознание личности», «линия поведения», «судьба» (с. 63). В числе литературных прототипов булгаковской Маргариты называют Гретхен (Маргариту) из «Фауста» И.В. Гёте, а также французских королев Маргариту Валуа, Маргариту Наваррскую и королеву Марго из одноименного романа А. Дюма. Последнюю считают литературным прототипом булгаковской Маргариты большинство исследователей.
В образе персонажа литературного произведения выделяют две составляющие: «низшее Я» (ум, эмоции, физическое тело человека) и «высшее Я» (дух, ментальный, метафизический уровень). Автор реферируемой статьи считает, что на земном уровне образ Маргариты «перекликается с образами гётевской Гретхен (Маргариты) и королевы Марго А. Дюма» (с. 69). На небесном уровне это святая Маргарита Антиохийская. Так ее именуют в католичестве. В православии она зовется святой Мариной Антиохийской, но М.Н. Капрусова полагает, что Булгаков выбрал именно западный вариант именования святой и сделал это, желая наметить параллели с героиней Гёте, с французскими королевами и героиней Дюма и считая имя «Марина» сниженным, фольклорным семантическим образом (с. 71).
Впрочем, далее, рассказывая подробности о житии святой великомученицы Маргариты-Марины в связи с образом булгаковской Маргариты Николаевны, автор реферируемой статьи подробно цитирует православную легенду о житии святой мученицы (с. 71–72) 22 22 Житие и страдание святой великомученицы Марины. – Режим доступа: http://www.bibliotekavolga.ru/marina.htm
. В заключение М.Н. Капрусова пишет: «Маргарита Николаевна, как и святая Марина, подает утешение от скорби, облегчение от душевной болезни и Мастеру, и Иванушке Бездомному. В сне Бездомного Маргарита ведет за собой Мастера, и можно предположить, что это благодаря ей и ее святой покровительнице, дарующей прощение и милость грешникам, Мастер оказывается на лунной дорожке и уходит по ней со своей спутницей, приближаясь к Свету» (с. 77).
МИФОЛОГИЯ СЕМЬИ В ПРОЗЕ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ 23 23 Побивайло О.В. Мифология семьи в прозе Людмилы Улицкой // Филология и человек. – Барнаул, 2010. – № 1. – С. 145–151.
Произведения Людмилы Улицкой (р. 1943 г.), как правило, представляют собой семейные саги. Повествование в них занимает примерно половину века. Это и Великая Отечественная война 1941–1945 гг., и послевоенное время. «Фабула романов заканчивается всегда современностью: 1990–2000-е годы. И все полвека – это жизнь семьи» (с. 145). В романе «Даниэль Штайн, переводчик» синонимом семьи становится община.
В романах Улицкой содержится идея безграничности семьи (т. е. множество потомков), говорится в них и о случайности при создании семьи, и о некоторых моментах кровосмешения, а иногда об инцестуальных отношениях. Последнее, по мнению автора реферируемой статьи, является отголоском мира мифологии. Это и союз брата и сестры – Зевса и Геры, это и библейские братья, бравшие в жены своих сестер, это и Эдип, который убил отца и женился на своей матери, это и Федра, воспылавшая любовью к пасынку Ипполиту, и проч. Пронизывает поэтику Улицкой и мотив близнечности, «становясь моделирующей основой» (с. 146).
Согласно мифологии, главой семьи может быть либо мужчина, либо женщина, либо первопара (Адам и Ева). В произведениях Улицкой Оксана Викторовна Побивайло находит все мифологические варианты. Три типа семей она называет «андроцентричным», «геноцентричным» и «универсальным» (с. 146). Глава семьи «андроцентричного» типа – женственный мужчина, причем «все мужчины-главы умирают при трагических обстоятельствах» (с. 147). Глава семьи «геноцентричного» типа – женщина. Они бывают в романах Улицкой положительными и отрицательными. В зависимости от характеров героинь сюжеты развиваются по-разному: семья либо разрастается и сохраняется, либо распадается и гибнет. «Универсального» типа семью возглавляет пара – мужчина и женщина. В мифах, как известно, первопара стоит у истоков сотворения или обновления мира (первопара в иудаизме – Авраам и Сарра).
Мифологию семьи в романах Улицкой продолжает тема детства. Ведь традиционным мифологическим сюжетом являлось особенное рождение особенного ребенка, в том числе рождение близнецов. Правда, согласно «Мифологическому словарю», рождение близнецов у многих народов считалось уродливым. Для поэтики Улицкой мотив близнечности является «одним из структурообразующих» (с. 149).
О.В. Побивайло заключает, что «мифология семьи в прозе Л. Улицкой ориентирована на архаические мифы, в частности о первопредках и о чудесном рождении» (с. 151).
И.Г.«ЛОМОНОСОВСКИЙ ТЕКСТ» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 24 24 Абрамзон Т. «Ломоносовский текст» русской культуры: Избранные страницы. – М.: ОГИ, 2011. – 234 с.
«Текст» понимается в монографии как «организованная структура, элементы которой объединены общей темой и обладают связностью и цельностью» (с. 5). Пролог «ломоносовского текста» русской культуры образуют тексты, написанные на французском языке: речь врача Н. Г. Леклерка на академическом заседании 15 апреля 1765 г. и брошюра графа А.П. Шувалова, включавшая небольшое вступление и оду на смерть Ломоносова. Речь Леклерка положила в России начало обряду светского – академического – поминовения ученого. Графу Шувалову «принадлежит (…) сама формула “ломоносовского текста”» (с. 15) как первопроходца в области наук и создателя искусств в России.
Несколько лет спустя после смерти Ломоносова появляется ряд произведений, в которых он выступает в роли жителя загробного царства, одного из участников «разговоров в царстве мертвых». Здесь он «получает вторую, а точнее вечную жизнь, проходя своеобразную культурную реинкарнацию» (с. 38). Даже после смерти Ломоносов продолжает оставаться наиболее авторитетным российским литератором, выступая в загробном мире в роли «литературного гуру», в уста которого ныне живущие авторы влагают свои мнения о литературе.
«Царство мертвых на поверку оказывается очень живым: туда переносятся споры, по какой-то причине неразрешенные на земле, и Ломоносов в нем стабильно востребован, например, в роли мэтра российской филологии и защитника русского языка» (с. 63). Ломоносовский авторитет необходим и умеренному архаисту Боброву, и воинствующему новатору Батюшкову. «В этих текстах имя Ломоносова и приписываемые ему речи выполняют роль почти сакральную, соотносимую с упоминанием имен царствующих персон или цитат из Святого Писания» (с. 75).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: