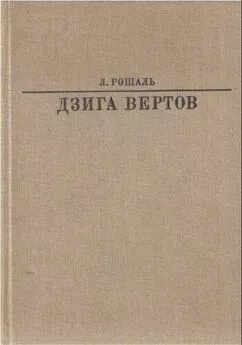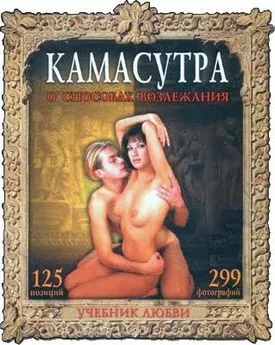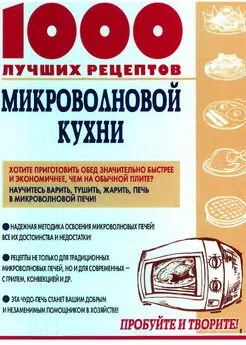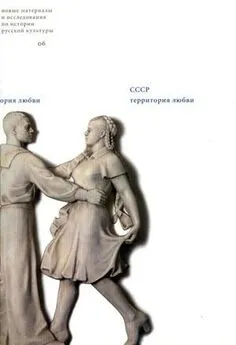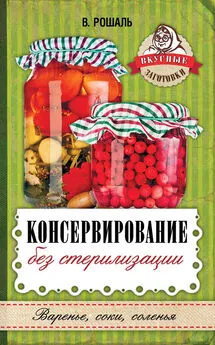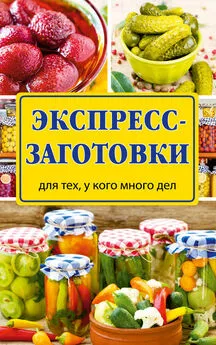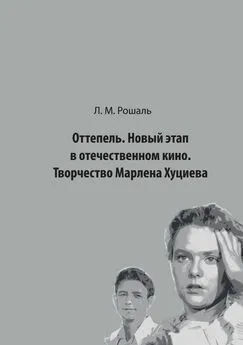Лев Рошаль - Дзига Вертов
- Название:Дзига Вертов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Рошаль - Дзига Вертов краткое содержание
Книга посвящена выдающемуся советскому кинорежиссеру, создателю фильмов «Ленинская Кино-Правда», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и др., ставших классикой мирового киноискусства, оказавших огромное влияние не только на развитие отечественной кинопублицистики, но и на весь процесс формирования мирового киноискусства. Жизнь и творчество Вертова исследуются автором на широком историческом фоне.
Дзига Вертов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Оно ужасно сердило читателей необъясненным лаконизмом, какой-то бессмысленной загадочностью, вызывало желание ответно дерзить и насмешничать. Это не преминул тут же сделать режиссер и критик А. Анощенко, когда в приливе веселого настроения пустил в оборот словечко «кинококки».
Новое дело можно искренне не понять и не принять.
Но для некоторых нет ничего сладостнее, чем над новым делом весело посмеяться.
Вертов справедливо полагал, что столь серьезно начатое им дело может рассчитывать на ответную серьезность обсуждения, где шутка тоже уместна, но не ради красного словца.
Художник, отстаивающий свой путь в искусстве, обычно лучше других знает, в чем его сила, и поэтому не хуже других чувствует свои слабости.
— Я — живой человек. И мне совершенно необходимо, чтобы меня любили, — говорил Вертов.
В восторженном и нетребовательном поклонении, не замечающем слабости, просчеты, ошибки, он никогда не нуждался.
Вертов говорил о любви, которая слабости замечает, совсем не стремится беспринципно их обойти и все-таки умеет быть снисходительной к ним.
Умное снисхождение к слабостям, поддерживающее силу, окрыляет художника, заражая новой энергией, щедро расходуемой в пути.
Вертов оставил в дневнике самоироничную, злую запись: на минуту представьте, что он умер, и вы увидите, как он талантлив.
Вертов был не прав, его талантливость очень многие поняли и оценили при его жизни.
Однако истинный масштаб личности еще только постигается.
Наверное, так уж мы устроены: для того, чтобы что-то приобрести, нам иной раз следует хорошенько понять, что мы потеряли.
А пока сила потери не ощутима, беззаботность может брать верх над снисхождением…
Назвав свою группу «киноки», Вертов вложил в это слово большой и продуманный смысл.
— Кинококки, разновидность бактерии футуризма, — озарился радостным открытием Анощенко.
Не правда ли — весело, задорно, смешно?..
Анощенко было весело.
А Вертову?..
Современники вспоминают, что в глубине вертовских глаз они нередко ловили оттенок печали. Этот оттенок можно уловить и в его фотографиях. Порой кажется, что печаль была не свойством настроения в отдельные минуты жизни, а свойством глаз.
Или свойством натуры.
Сам Вертов тоже любил посмеяться, говорил про себя: ведь я веселый человек.
Грусть таилась в глубине глаз, хотя для нее могло и не быть причин.
Но — могли и быть.
Одна из них, несомненно, вот эта: мне грустно потому, что весело тебе, как писал Лермонтов.
Не потому, что он не любил или не понимал шуток, а потому, что чаще продуманного и взвешенного смысла находил в них пустой, зубоскальный умысел.
Загадочные «киноки» в общем-то расшифровывались просто.
Они произошли от слияния двух слов: «кино» и «око».
Назвав группу объединившихся вокруг него кинематографистов «киноками», Вертов всю сумму своих теоретических воззрений и вытекающих из них практических методов чаще всего определял формулой, состоящей из сочетания тех же слов — Кино-Глаз.
— «Кино-Глаз» или «кино-око». Отсюда «киноглазовцы» или «киноки», — вспоминая начало своего пути, объяснял в 1929 году Вертов.
Многим Кино-Глаз казался всего лишь эффектной, даже крикливой этикеткой, мало что выражающей по сути.
Но на самом деле это была формула предельно насыщенного раствора, вобравшего в себя все разнообразные элементы вертовского метода. Одновременно она обозначила две главные несущие опоры здания его теории — в виде сочетания двух слагаемых формул: «Кино» и «Глаз».
В формуле все было не случайным: и то, что Вертов в своих рукописях, как правило, писал оба слова с прописных букв, и то, что никогда не соединял их, но и никогда не разъединял, ставя между ними дефис.
Дело было не в спорности грамматического правила, а в бесспорной равнозначности для Вертова обоих слагаемых.
Каждое включало в себя определенную группу самостоятельных понятий.
Но высечь огонь могло только их двуединство.
Бесчисленные толки, сразу же возникшие вокруг Кино-Глаза, нередко превращались в кривотолки лишь потому, что толкователи выказывали пренебрежение тому или иному из слагаемых.
Стоило какую-то из опор убрать, искренне уверовать в ее отсутствие у Вертова, и тогда, конечно, не составляло трудности доказать, что возведенное им здание теории рушится на глазах, засыпая обломками распластанное тело своего создателя.
Однако обломки рухнувшей постройки опять же летели в кого угодно, но только не в Вертова.
Потому что с самого первого момента формулой «Кино-Глаз» обе опоры были Вертовым установлены фундаментально.
В каких-то случаях он мог делать больший акцепт на одной половине формулы, в каких-то — на другой.
Но не Вертова вина, что его акценты любили принимать за его однобокость.
Это не его вина и не его однобокость.
Он всегда помнил, что одно без другого не даст возможность высечь огонь.
А начало всему положил, конечно, прыжок с грота.
Вертов писал, что вначале Кино-Глаз понимался как рапидный глаз.
Замедленное на экране изображение прыжка, открывшее массу скрытых подробностей внутреннего состояния человека, закладывало первые основы теории Кино-Глаза.
В 1918 году, просматривая кинограмму своего прыжка, Вертов интуитивно почувствовал бесцельность во множестве случаев съемки, лишь имитирующей человеческое зрение. Такая съемка остается только средством фиксации и не может стать средством анализа действительности, визуального проникновения в невидимые обычным зрением процессы.
В 1923 году то, что интуитивно ощущалось пять лет назад, осмысленно провозглашалось в манифесте «Киноки. Переворот»:
Исходным пунктом является:
использование киноаппарата как Кино-Глаза, более совершенного,
чем глаз человеческий, для исследования хаоса зрительных явлений,
наполняющих пространство.
Вертов объяснял, что положение человеческого тела во время наблюдения, количество воспринимаемых человеком моментов того или другого зрительного явления в секунду времени вовсе не обязательны для киноаппарата, который тем больше и тем лучше воспринимает, чем он совершеннее. Глаза нельзя сделать лучше, чем они сделаны, киноаппарат можно совершенствовать бесконечно.
Неестественно медленное на экране движение бегущей лошади (быстрое вращение ручки аппарата) или, наоборот, чересчур быстрая распашка поля трактором (медленное вращение ручки аппарата) считались случайностями, ошибками, операторы получали за них замечания.
Но внимательно анализируя эти случайности, Вертов вырабатывал «систему, обдуманную систему таких случаев, систему кажущихся незакономерностей, исследующих и организующих явления».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: