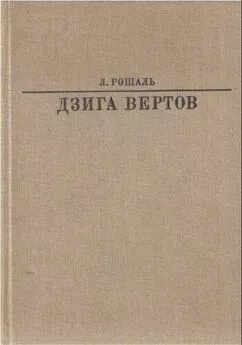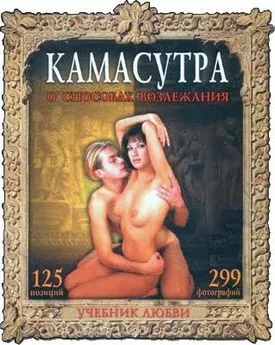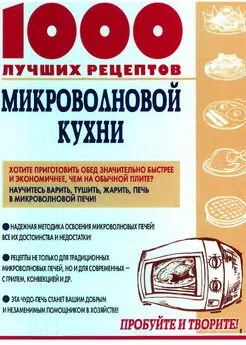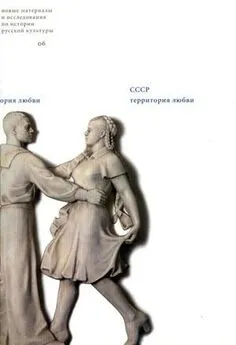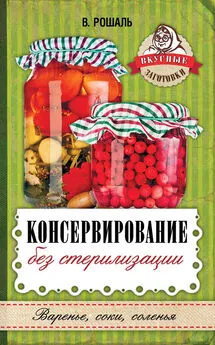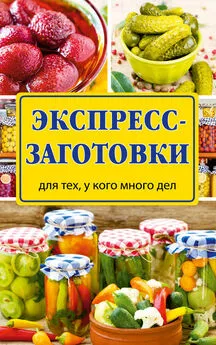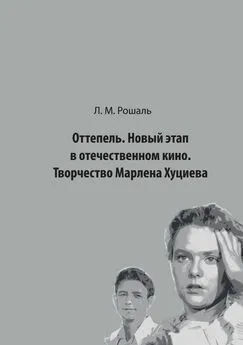Лев Рошаль - Дзига Вертов
- Название:Дзига Вертов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Рошаль - Дзига Вертов краткое содержание
Книга посвящена выдающемуся советскому кинорежиссеру, создателю фильмов «Ленинская Кино-Правда», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и др., ставших классикой мирового киноискусства, оказавших огромное влияние не только на развитие отечественной кинопублицистики, но и на весь процесс формирования мирового киноискусства. Жизнь и творчество Вертова исследуются автором на широком историческом фоне.
Дзига Вертов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не гулким эхом сражения, а — тишиной.
Но тишиной не мертвой, а живой — надо было суметь в нее вслушаться.
Вертов отказался от надписей, зримо звучащего слова и даже от зрительной имитации реальных шумов не только ради стопроцентного киноязыка (это была важная и все же побочная задача), но потому, что понимал или, скорее, художнически предугадывал: раскрыть новое мироощущение может не поэзия слов и музыка реальных звуков, а поэзия и музыка чувств. Слова, звуки уже смолкли, когда остались порожденные ими стойкие ощущения.
Никакого хаоса, никакого «винегрета» в картине нет, это выдумка критиков, не понявших фильма.
Великое множество разнообразных и характерных деталей быта в картине монолитно спаяны именно этим — единством нового мироощущения, вошедшего в души людей.
И если часть критики на хаосе все же настаивала, то не оттого ли, что коренной перелом, происходивший в социальном мировосприятии, она сама пока больше воспринимала через слова, лозунги и призывы, а Вертов к новому восприятию мира давно прикипел душой? Ведь уже давно свои журнальные выпуски и фильмы он строил на том же принципе — разрозненные факты пронизывал единой логикой нового мироощущения.
В этой ленте Вертов очень многое повторял, только теперь на более высокой ступени мастерства, на более глубоком знании азбуки и грамматики киноязыка, с блеском и виртуозностью подлинного артистизма.
Единую логику нового мироощущения в наиболее полной мере выражало главное действующее лицо фильма, тоже хорошо знакомое по другим вертовским картинам, — человек с киноаппаратом.
Многие издания, посвященные Вертову, иллюстрируются теми кадриками из «Человека с киноаппаратом», где оператор снимает или отправляется на съемку.
Но картина называлась «Человек с киноаппаратом» не оттого, что Кауфман сам появлялся в нескольких местах на экране. Фильм не сводился к рассказу об операторе и особенностях его работы, как это чаще всего считается.
Дневниковые записи Вертова двадцать седьмого года заполнены всевозможными вариантами будущего построения картины (дополнительное опровержение разговоров о бесплановости работы).
Сами по себе наброски очень живы и интересны, иногда даже с детективно-приключенческим уклоном.
Но картина на них мало похожа (дополнительное подтверждение отдаленности предварительных построений на бумаге от окончательных — после исследования конкретно снятого материала). Во всех умозрительных вариантах героем картины был почти все время присутствующий на экране оператор (или его камера; уставший оператор засыпал на пляже и видел во сне, как камера отправлялась сама гулять по жизни).
В самом фильме героем стал не оператор, а человек с киноаппаратом — при всей внешней близости понятий они в данном случае оказывались отнюдь не адекватными.
Человек с киноаппаратом — не тот, что иногда мелькал с камерой в руках в кадре.
Но тот, что постоянно присутствовал (как и во многих других лентах Вертова) за кадром.
Не Кауфман.
И не Вертов.
И не кто-либо другой из авторов.
Вообще не конкретное лицо, а традиционный лирический герой вертовской поэзии.
Не обретая реально зримых очертаний на экране, он тем не менее был наделен, как и всякий человек, своеобразием черт.
Индивидуальность проявлялась в особой остроте в и дения окружающего мира. Но врезаясь в гущу жизни, человек с киноаппаратом не только пристально наблюдал ее подробности. Он чутко реагировал на них, передавал всю полноту эмоций от восприятия действительности.
Фильм был еще одним опытом внутреннего монолога, на этот раз высказанного языком чистой пластики.
Форма монолога была индивидуально неповторимой, а сконцентрированные в нем чувства отражали мироощущение, свойственное людям эпохи в целом.
Человек с киноаппаратом умел смотреть на мир так, как не умел никто, но выражал чувства всех.
Не одного человека, а миллионов.
Чувства народа.
Для истинного понимания человека с киноаппаратом к месту украинское слово «людина» — выражая человеческую единичность, оно самим своим звучанием представительствует (как и лирический герой фильма) от людей.
Можно бесконечно спорить (тем более если есть желание) по поводу тех или иных кинематографических приемов, использованных Вертовым, их оправданности.
Но одного у картины отнять невозможно — ее жизнерадостного настроя, светлой, мажорной тональности.
Картина просвечена доброй улыбкой, пересыпана шутками (в косметическом кабинете женщинам накладывают на лицо пригоршнями белую, будто известковую, маску; параллельно повязанная до бровей штукатурщица, улыбаясь щелками глаз, ловко обмазывает шматками глиняной массы кладку доменной печи — всему требуется своя косметика…).
Новое мироощущение открывалось в той особенности восприятия действительности, которая определяется приятием ее.
Действительность (может быть, впервые в истории) вступала в согласие с жизнью миллионов. Этот лад человека с действительностью и рождал бодрое, жизнелюбивое восприятие окружающего мира.
Оно проявлялось не только в добром, улыбчивом, жизнерадостном отношении ко многим зорко схваченным житейским деталям.
Новое мироощущение, может быть, полнее всего раскрывалось в ритме фильма.
В ритме, а не в сменах темпа (быстро — медленно), в замедленных, даже застывших изображениях обычно тоже продолжали существовать бодрые по ритму, жизнелюбивые интонации.
Ритм не только определял способ поэтического строения картины, но и отражал характер настроения людей.
Ритм фильма как выражение внутреннего ритма человеческого существования, здорового жизненного тонуса.
Переплавить ритм картины со всеми его особенностями в слова на бумаге — трудно; как и все в ленте, его восприятие рассчитано на зрительное воздействие. Но неожиданным помощником в такой «переплавке» может стать один из документов, сохранившийся в архиве Вертова, — «Музыкальный конспект к „Человеку с киноаппаратом“».
В конспекте, согласованном с автором, указывался характер музыкального сопровождения каждого эпизода во время демонстрации фильма в кинотеатрах. Подавляющее большинство эпизодов должна была сопровождать «оживленная музыка», «живая музыка», «аллегро» (почти везде), «бравурная музыка», «веселая, бодрая маршеобразная музыка», «веселая русская музыка», «веселый вальс бостон» (для сцен пляжа), «комическая музыка» (эпизод с китайским фокусником), «веселая музыка ритмического характера» (эпизоды физкультуры), «бурное аллегро, доходящее до престо, ударник все время делает дробь на маленьком барабане» (это, естественно, для финала). И только в самом начале, когда просыпается город, — «спокойная, легкая музыка, пианиссимо, анданте», и в сценах загса, разводов, похорон — «повествовательный характер, лучше, если этот эпизод играет один рояль».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: