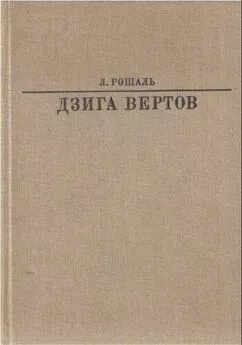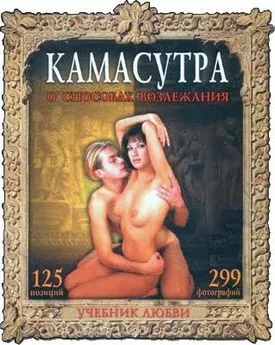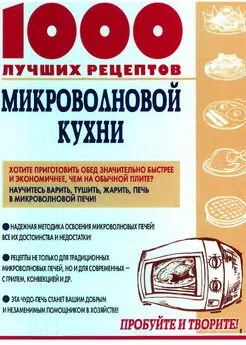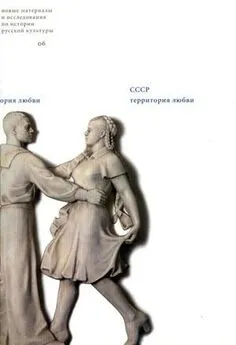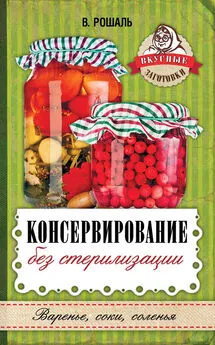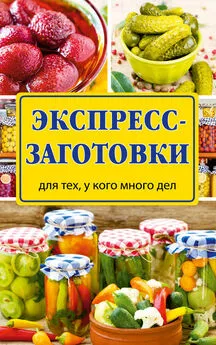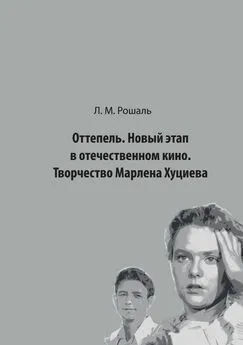Лев Рошаль - Дзига Вертов
- Название:Дзига Вертов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Рошаль - Дзига Вертов краткое содержание
Книга посвящена выдающемуся советскому кинорежиссеру, создателю фильмов «Ленинская Кино-Правда», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и др., ставших классикой мирового киноискусства, оказавших огромное влияние не только на развитие отечественной кинопублицистики, но и на весь процесс формирования мирового киноискусства. Жизнь и творчество Вертова исследуются автором на широком историческом фоне.
Дзига Вертов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Михаил Ильин — псевдоним Ильи Яковлевича Маршака, родного брата Самуила Маршака, Елена Александровна Сегал — жена и соавтор многих книг М. Ильина. Книги рассказывали детям о происхождении вещей. Авторы добивались не упрощения, а ясности. О науке они говорили увлекательно и поэтично.
Осенью 1939 года сотрудники сценарного отдела свели их с Вертовым.
Поначалу работа шла трудно, не выходила за пределы традиционных сказочных атрибутов: ковров-самолетов, сапогов-скороходов и т. п. Но однажды пришла мысль рассказать в сказке о реальном человеке. Вернее, о человечище. Или точнее — о человечестве, изменяющем мир.
Великан олицетворял человечество.
Он рушил горы, прокладывая широкие дороги на месте узких горных троп, поил влагой оазисы пустынь. Он волшебно преобразовывал землю, но в его делах была мудрость плана, осуществление самых дерзких чаяний людей.
Научное познание воссоединялось с поэзией и симфонизмом мысленных ассоциаций. Вертов и писатели встретились вроде бы случайно, но, как вскоре выяснилось, это была встреча единомышленников.
Вертов приходил к Ильиным каждое утро и уходил поздно вечером.
Официально авторами сценария были Ильин и Сегал. Вертов работал с ними на равных. Смущенные этим обстоятельством, Ильин и Сегал не раз уговаривали Вертова поставить его фамилию тоже, пока не убедились, «что этому человеку (вспоминает Е. Сегал) совершенно безразлично: подписать или не подписать свое имя, получить или не получить гонорар».
Они не знали, что у Вертова в дневнике есть запись:
— Я не работаю ради денег. Это необходимо понять. Если бы я работал ради денег, я не зарабатывал бы в среднем меньше всех режиссеров. Меньше, пожалуй, ряда наших монтажниц. Для меня выпускаемый мной фильм — мой ребенок. Никто не может больше болеть и тревожиться о здоровье и судьбе ребенка, чем это делает мать.
Ему не терпелось работать, стоять у камеры, держать в руках пленку, только что вышедшую из лаборатории. Монтировать фильм, собирать отдельные куски правды в правдивую картину мира и его преобразования.
Сценарий понравился на студии. Члены художественного совета отмечали его экспериментальный характер, но предлагали в режиссерском варианте сократить его. Вертов проделал огромную работу, вместо 752 кадров в окончательном варианте оставил 452.
Но начальник Главного управления по производству художественных фильмов отнесся к сценарию отрицательно. Сказал, что будущий фильм рассчитан на профессоров Сорбонны, эстетов от кинематографа, а не на школьников. Много Вертова, объяснял он, который мешает Ильину.
На художественном совете Юткевич рассказал, какими доводами он защищал сценарий, а затем выступили М. Донской, Л. Кулешов, Я. Протазанов — люди, отнюдь не близкие Вертову своей стилистикой, но они все принципиально поддержали сценарий, его экспериментальный характер, нестандартность жанра.
Потом сценарий будет поддержан ЦК комсомола, секретарь ЦК Н. Михайлов позвонит И. Большакову — тогдашнему председателю Комитета по делам кинематографии.
Но противодействие сценарию начальника Главка сыграет свою роль в окончательном решении.
Первого февраля Вертова и Ильина принял Большаков. Разговор был долгим, полуторачасовым. Большаков выдвинул доводы против сценария: многое технически не выполнимо; показывали сценарий на студии Техфильм и там сказали, что в сценарии ничего нового нет, они могут в месяц сделать нечто подобное из фильмотечного материала.
На это Вертов ответил притчей: одна женщина двенадцать лет ткала замечательный ковер и назвала его «Моя жизнь». Ковер оценили в громадную сумму денег. «Ха-ха-ха! — посмеялась присутствующая при оценке танцовщица. — Я вам такой ковер сделаю за 20 рублей и в течение одного часа». Она собрала валявшиеся у нее разные куски материи и рваные тряпки, быстро сшила их в один кусок на швейной машинке, выгладила и быстро подписала тряпку мелом «Моя жизнь». А так как тот и другой ковер назывались одинаково, то первой женщине, талантливой и трудолюбивой, ничего не оставалось делать, как повеситься на дверном крюке, что она благоразумно и сделала.
Когда Вертов и Ильин обсмеяли таким образом трюк Техфильма, Большаков выдвинул еще один аргумент: фильм не актуален, не современный. Сценарий сам по себе хороший, интересный, но не актуальный.
— Разве «Сказка о Великане» не актуальна? — спросили Вертов и Ильин.
— Она не актуальна в данный момент, она никогда не устареет. Пусть лежит, когда-нибудь поставим.
Кроме того, Большаков говорил о больших расходах на картину и предложил другую тему «История авиации» — это актуально, это сейчас нужно.
Все подробности переговоров Вертов записал в дневник, не забыв рассказать о напряжении Сегал, которая сидела у телефона, о напряжении Свиловой, она и другие члены группы ждали Вертова дома.
В 1967 году на экран вышел документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».
В одном из эпизодов картины М. Ромм занялся изучением излюбленных поз Гитлера и установил, что самое характерное положение рук фюрера — это крепко сплетенные пальцы где-то пониже пояса, примерно у того самого места… в общем, у того самого места. Ну и что из этого? Как любили повторять блюстители расовой чистоты: каждому свое!
Но Ромм на этом не успокоился. Он взял самую обычную фотографию, на ней группка сиятельных бонз третьего рейха после очередного совещания, встав полукругом, снялась на память. Ромм попросил зрителей присмотреться к рукам этих бонз — все они без исключения, оставляя о себе память потомкам, сплели пальцы рук пониже пояса, у того самого места, у которого их обычно сплетал фюрер.
Отправляя разных, не похожих друг на друга людей в печи, газовые камеры, могильные рвы, они прикрывались роково-глубокомысленным: каждому свое! Но меж собой они больше всего не хотели, чтобы у каждого было что-то свое, отличительное от другого. Они отдали фюреру все свои права на собственную мысль, на оценку путей, целей, личных поступков, а уж тому после этого было просто плевым делом связать им руки где-то пониже пояса при их полном и добровольном согласии. Может быть, все-таки они и не держали бы руки в соответствии с идиотской привычкой любимого вождя, если бы знали, что будут впоследствии выглядеть такими дураками. А впрочем, наверное, все равно держали. Ибо злободневная необходимость походить на того, кто был учителем, научившим «всему», и кто был отцом, отпускавшим все грехи, была важнее исторического предположения (возможно, и посещавшего их иногда), что фюрер оставил их в таких непроходимых дураках.
Вот какие (да еще, наверное, и многие другие) ассоциации рождает кадр, увиденный не с точки зрения его даты и подписи, а рассмотренный, исследованный во имя его осмысления. Слово М. Ромма здесь играло, конечно, тоже огромную роль. Но оно не сводилось к простейшей констатации, а вело к размышлениям, вытекающим из внимательного изучения изображения. Из изучения, проведенного М. Роммом, а затем совместно с ним зрителями его картины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: