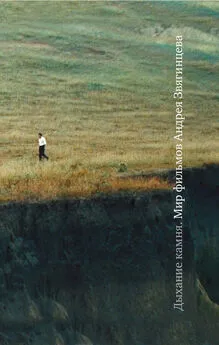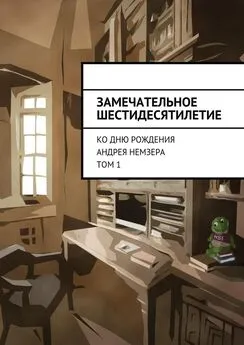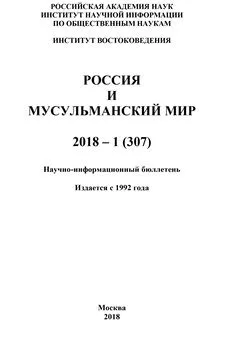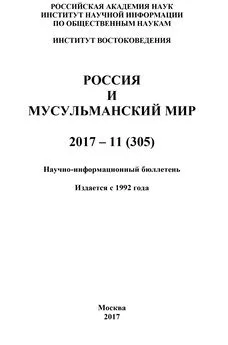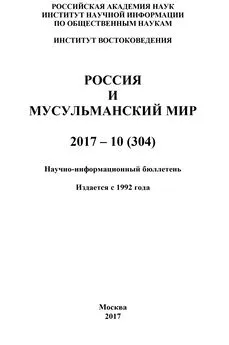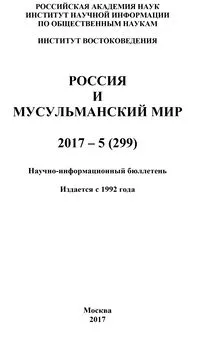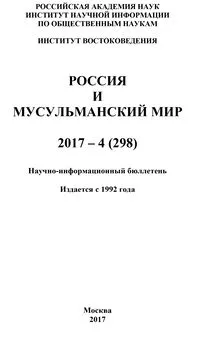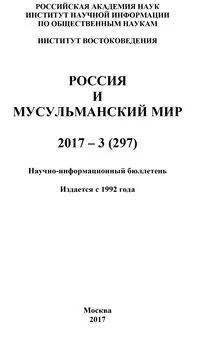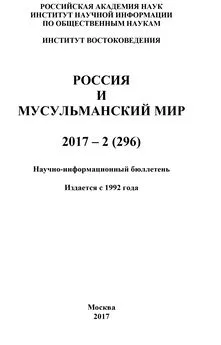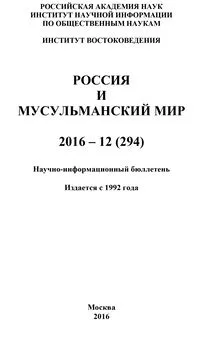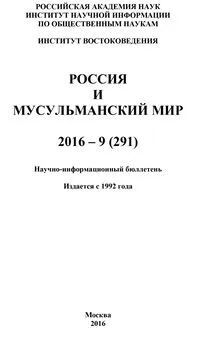Коллектив авторов - Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева
- Название:Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0396-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева краткое содержание
Настоящий сборник – первая попытка начать серьезный разговор об особой кинематографической эстетике фильмов Андрея Звягинцева. Здесь представлены работы критиков и эстетиков кино, аспирантов вузов, посвященные анализу фильмов режиссера, материалы мастер-класса, проведенного Звягинцевым в киноклубе “АРТкино” в сентябре 2007 года, а также интервью с участниками творческого коллектива, специально подготовленные для этого сборника, и другие материалы.
Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но иной раз случается такое, что актерская игра настолько кажется тебе недостоверной, что на твоих глазах здание, выстроенное режиссером, рушится.
Скажите, по-вашему, “достоверны” ли актеры в фильмах Брессона? Или – легко ли поверить в “правдивое” существование актеров в последних фильмах Тарковского?
На эти два вопроса лично я отвечаю – нет, потому что мир фильмов этих режиссеров – это какой-то отдельный мир, совершенно особый, непохожий на тот, что нас окружает в повседневности. Но этот придуманный мир абсолютно достоверен, поскольку сообщает нам очень важные вещи о нас самих. А так называемая “реалистичность” – это пустое требование обывателя, который уже даже словечко нашел для обозначения данного предмета – “жизненный фильм”. В актерском ремесле “мимесис” – или жизнеподобие, реалистичность – это лишь первая ступень к искусству перевоплощения, как рисунок для живописца, но ее нужно преодолеть и двинуться навстречу иному качеству игры. В искусстве следует быть верным принципу подражания миру тонкому, чутко следовать невидимым ритмам. По-моему, нет нужды во внешнем перевоплощении в различные характеры, это удел слабых душ, чутких до поклонения и восторгов толпы, необходимо перевоплощение в иное свойство человеческой природы. Об этих материях очень трудно говорить, но посмотрите на Жанну Моро или, скажем, на Изабель Юппер. В каждой из них в отдельности будто бы все женщины собрались в тайный союз. Словно бы их тело стало сосудом, вмещающим в себя тайну о человеке вообще. И это не тот самый пресловутый “характер”, который “удалось сыграть”, это струение редких свойств личности, тот удивительный способ игры, который обходится малым, но от которого трудно отвести взгляд. Ведь их лица – это почти маски. Тут внешнее становится лишь формой, в которую влито невидимое. Тут именно в молчании человеческого облика таится магия, а вовсе не в бряцании человеческого характера, всегда преходящего. Человек – Чело и Век. Вечное лицо. Вечный лик, а не рожа с ухмылкой или даже со слезами.
Поэтому – не только поэтому, но еще и поэтому – чем меньше в актере индивидуального, тем легче приближается он именно к воплощению идеи. Для меня центральной фигурой в идейном построении “Изгнания” была фигура Алекса, разбитая словно бы на три возможности: один путь – это его брат Марк, другой – его друг Роберт, а третий – тот, что в середине, – сам Алекс, как персонаж из сказки, стоящий у камня на распутье. По некоторым отзывам (например, Игоря Манцова) ясно, что это все-таки возможно разглядеть. До прочтения его рецензии, признаюсь, я был в унынии, мне казалось, я иду не туда, потому что, как мне представлялось, я настолько все открыл, сделал таким ясным, даже выпуклым, а на поверку выходило, что только мне самому что-то понятно, остальные же в полном недоумении или разочаровании. Теперь я знаю, что если есть хоть один человек, который попытался разгадать замысел нашего фильма и преуспеть в этом, – значит это возможно, значит маршрут избран верно.
Я помню, как на бумаге рисовал эту модель, когда мы сидели за сценарием вдвоем с Олегом Негиным: в середине есть человек, – это история одного человека, – и вокруг него ду´хи, все это ду´хи – ду´хи верхнего мира, ду´хи нижнего мира и человек, расщепленный натрое (кажется, Бахтинская идея: братья Карамазовы – это одно лицо, это не братья по крови). У меня было большое искушение по-другому назвать главного героя “Изгнания”, хотя и данное ему имя прекрасно здесь работает: Алекс, Александр – “защитник людей”. Защитник, который изменил собственному имени и стал Разрушителем, человек, который потерял сам себя. Но есть еще одно имя, которое подошло бы герою, и я долго мучился с этим выбором. Имя это – Глеб. Древнегерманское имя, означающее “поставленный пред Богом”. Для меня Алекс – фигура, поступком Веры поставленная на авансцену для рассмотрения; и вот дальше все эти мир´ы и ду´хи – и помогающие ему, и мешающие ему, и вверх, и вниз тянущие его, – они все становятся участниками этого ристалища, этой битвы человека с самим собой (за себя самого), этого выбора на глазах у всех. И Вера глядит в его распахнутую душу, а он с неизбежностью раскрывается, потому что одна из идей примерно такова – человек может прожить длинную жизнь, говорить какие угодно красивые или “искренние” слова, но только когда он совершает поступок, только тогда он называет себя по имени, потому что сознание реализует себя именно в действии, оно попросту в этот самый момент и обнаруживает подлинную свою сущность. Как утверждал Мераб Мамардашвили: “Человек – это усилие быть человеком”. И в этом смысле Вера делает так, что только в такой парадоксальной ситуации Алекс сумеет увидеть сам, кто он есть. Он (Алекс), сперва не вполне осознавая того, действует, исходя из того ресурса, что ему отпущен его нравственным опытом. И только такое – трагическое и страшное – испытание помогает ему оказаться у самого себя на рассмотрении. И как этого можно было не разглядеть, не понимаю.
Насколько важно для вас восприятие ваших фильмов критикой?
Я вам скажу так… Вот смотрите. На сегодняшний день сколько у нас в стране журналов о кино? Я имею в виду фундаментальных. Это “Сеанс”, “Искусство кино”, “Киноведческие записки” и, наверное, “Киносценарии”. Других я не знаю. Я отсылаю главному редактору одного из них статью. Говорю ему, что мне важно, чтоб она была опубликована…
А что вы ему отослали?
Статью Васильева “Препарат профессора Гибберна”. Если не вдаваться в детали, редактор ответил: “Нет”. Он сказал, мол, это все интересно, конечно, но, увы, – “не наш формат”. Разумеется, это просто уловка. Отговорка. Ну, как эту статью можно было не опубликовать? Где ж еще ее публиковать? В журнале “Караван историй”? Издания, указанные выше, – единственная трибуна, на которую я могу рассчитывать. Тем более что я, как автор фильма, просто нуждаюсь в этом. Не в личном каком-то оправдании, но в некоем голосе, который мог бы подсказать какие-то темы, которые автор озвучивать не должен. Подсказать, чтобы зрители поняли что-то еще сверх того, что им ясно и без того. По сути, в этой трибуне мне отказали. Притом что мне казалось, мы дружны.
Послушайте, вам грех жаловаться, очень многим зрителям понравилось ваше “Изгнание”. Я тоже из их числа. Что же касается печатных изданий, помню, когда вышел фильм “Возвращение”, в “Искусстве кино” были напечатаны три статьи, на мой взгляд, вполне положительные.
Да, я их видел. Но дело-то не в положительности. А в степени понимания. В степени подробности анализа. Я чувствую лишь одну дыру, в которую все проваливается. Что ты ни делаешь, все проваливается в какую-то вату безразличия и бездумности, в какой-то вакуум непонимания или негативной рефлексии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: