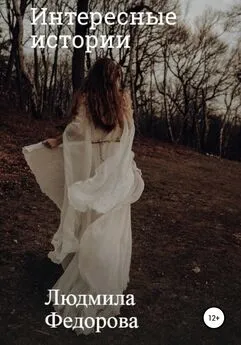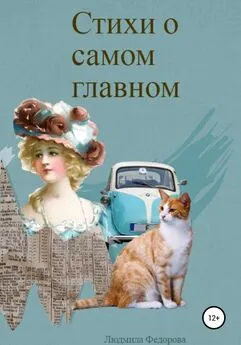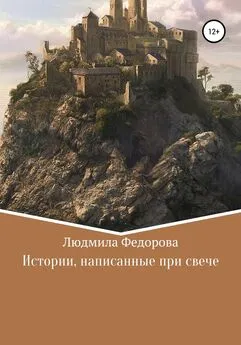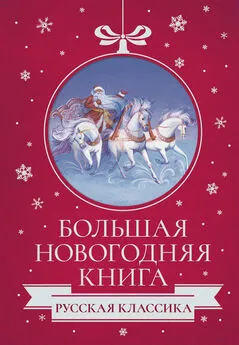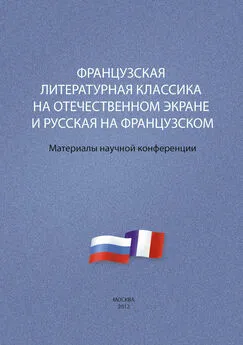Людмила Федорова - Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране
- Название:Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:9785444816547
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Федорова - Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране краткое содержание
Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, западные экранизации романов ужасов XIX века, таких как «Франкенштейн» и «Дракула», как и советские адаптации соцреалистических текстов, подобных «Чапаеву», фильтруют литературный оригинал через облако мифов, окружающих центральные фигуры. Многие из этих мифов порождены не литературными оригиналами, но предшествующими экранизациями нарративов, существующих в массовом сознании [46] Hutchings S., Vernitski A. Op. cit. P. 6.
.
Хатчингс и Верницки противопоставляют идее бесконечных вариаций одного уртекста, предложенной Кардвелл, другую – идею трехсторонней борьбы за репрезентирующее господство между фильмом, легендой и текстом [47] Ibid. P. 6–7.
.
Развивая новые направления интертекстуального подхода, Камилла Эллиотт [48] Elliott K. Rethinking the Novel/Film Debate. Cambridge: Cambridge UP, 2003.
предлагает для понимания адаптации как двустороннего процесса, в котором фильм преображает роман и сам преображается им, важную метафору зеркала. Адаптация – взаимная, перевернутая трансформация; циклический процесс трансформации можно сравнить с работой памяти, когда момент припоминания изменяет само воспоминание. Простое возвращение назад невозможно, так как экранизация изменила книгу. В этом подходе важно то, что и фильм, и текст являются не пассивными, но активными акторами, формирующими субъектность читателя и зрителя.
Настоящее исследование перекликается в подходе и с Кардвелл, и с Эллиотт. В подходе Эллиотт мне близка идея субъектности читателя и зрителя, а также активности фильма и текста. Не редуцируя важности диалога между конкретным произведением и основанным на нем фильмом, я, как и Кардвелл, рассматриваю сложный полилог, образуемый голосами различных – и реагирующих друг на друга – адаптаций.
Наконец, в 2010‐е годы особенно остро встает проблема адаптации в связи с новыми цифровыми медиа и диктуемыми этими медиа режимами зрительской вовлеченности. Линда Хатчеон и Шавон О’Флинн в предисловии к новому изданию известной книги Хатчеон «Теория адаптации» указывают на важность изучения адаптаций в контексте партисипаторной культуры [49] Hutcheon L., O’Flynn S. A Theory of Adaptation. 2nd ed. New York: Routledge, 2013.
.
В России развитие теории адаптации до последних трех десятилетий было в основном изолировано от западных моделей, которые доходили до отечественных исследователей с большим опозданием. Из важных работ в этой области можно назвать сборник «Книга спорит с фильмом», рассматривающий экранные адаптации русской классики в разных ракурсах: с точки зрения режиссеров, литературоведов и киноведов [50] Книга спорит с фильмом. Сборник «Мосфильм» – VII / Под ред. В. С. Беляева и др. М.: Искусство, 1973.
. При том, что второй, интертекстуальный, этап многим обязан теории Бахтина о диалогизме, продуктивно приложенной к адаптации, в России преобладающим подходом долгое время оставался – и сейчас остается – медийно-специфический, основанный на метафоре перевода, причем часто в архаическом изводе, утверждающем безусловное превосходство литературы над ее несовершенным экранным воплощением. Отечественным исследователям и сейчас приходится утверждать – не только для массового зрителя и читателя, но и для специалиста – ограниченную пригодность представлений об отношениях «источник – перевод» или «оригинал – копия» при оценке адаптаций. Олег Аронсон, в частности, апеллирует к представлению о «непереводимости»: то в литературном тексте, что не может быть переведено на другой язык, должно быть переписано заново [51] Аронсон О. В. Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
. Аронсон, таким образом, по-своему переоткрывает новый этап теории перевода в духе Гидеона Тури. И это переоткрытие особенно актуально в российском контексте, поскольку фоном для него являются работы, эксплуатирующие бинарную схему и утверждающие литературоцентризм как режиссерскую и исследовательскую позицию (Людмила Сараскина [52] Сараскина Л. А. Литературная классика в соблазне экранизаций: Столетие перевоплощений. М.: Прогресс-Традиция, 2018.
), рассматривая экранную адаптацию как бледную несовершенную копию литературного оригинала (Валерий Мильдон [53] Мильдон В. И. Другой Лаокоон, или О границах кино и литературы. М.: РОССПЭН, 2007. На ограниченность подхода Мильдона справедливо указал Николай Хренов, см.: Хренов Н. Заметки на полях «Другого Лаокоона» // Киноведческие записки. 2007. № 85. С. 341–345.
).
Исследование Людмилы Сараскиной, по материалу близкое к моему, принципиально отличается от него, с одной стороны, задачей, а с другой – и методологией, о которой свидетельствует само название книги Сараскиной: «Литературная классика в соблазне экранизаций». Автор делает широкий обзор постсоветских адаптаций, исходя из того, что они вторичны по отношению к литературе, и ставит вопрос о праве режиссеров на искажение литературного текста и об их моральной ответственности. Поскольку Сараскина исходит из того, что смысл произведения имманентен ему, заложен в тексте, – в качестве единственной достойной цели адаптации она видит передачу этого смысла. Иронические, деконструирующие адаптации трактуются здесь как соблазн режиссерского самомнения и недостаток уважительного внимания к произведению. Исследование при этом не ставит вопросов о том, каковы могут быть цели таких трансформаций и симптомами каких общественных процессов они являются. Анализируя особенности бытования современных адаптаций, Сараскина справедливо отмечает возрастающую роль критики, создаваемой не профессионалами, а зрителями, – и приводит примеры таких непрофессиональных отзывов на адаптации, не подвергая, однако, анализу весь существующий спектр мнений, а приводя те, которые совпадают с ее собственными оценками.
Ирина Каспэ, Борис Дубин и Наталья Самутина рассматривают адаптации в контексте социологии культуры [54] Каспэ И. М. Классика как коллективный опыт: литература и телесериалы // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 452–489; Самутина Н. В. Cult Camp Classics: специфика нормативности и стратегии зрительского восприятия в кинематографе // Самутина Н. В. Указ. соч. С. 490–531; Дубин Б. В. Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
. Для моего исследования были особенно важны работы Ирины Каспэ, предметом внимания которой являются режиссерские стратегии, формирующие способы восприятия классики и задающие режимы смотрения. Каспэ исследует знаки литературности в экранных адаптациях и ставит принципиальный вопрос о том, каков именно рассчитанный на узнавание образ текста, который режиссеры считают нужным транслировать аудитории.
Интервал:
Закладка: