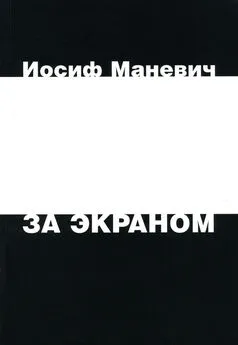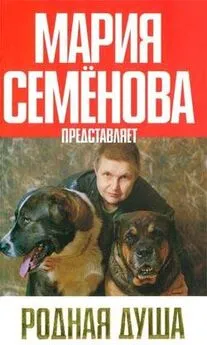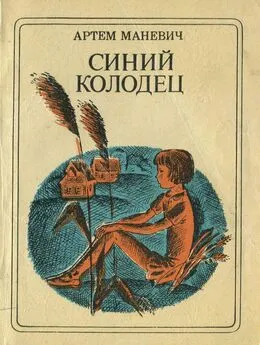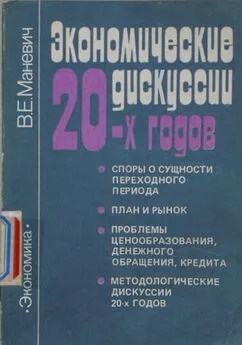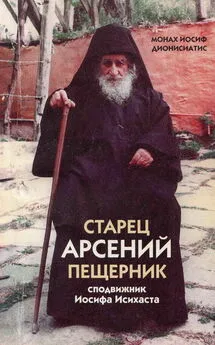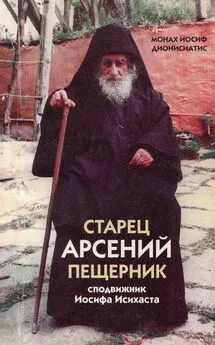Иосиф Маневич - За экраном
- Название:За экраном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-98379-072-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Маневич - За экраном краткое содержание
Воспоминания известного сценариста, профессора ВГИКа И.М. Маневича (1907–1976) были написаны в начале 1970-х годов и не предназначались для опубликования в тех условиях, когда это неизбежно было бы связано с существенной цензурной правкой. События и герои нескольких десятилетий истории советского кинематографа – это еще не все повествование. Здесь представлен широкий срез жизни российской интеллигенции, для которой внешняя канва существования – войны, эвакуации, угроза репрессий – никогда не заслоняла напряженных духовных поисков и стремления творчески реализоваться в своем деле.
За экраном - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
До постановления ЦК о «Большой жизни» при Комитете тоже существовал художественный совет, председателем его был Большаков, заместителем председателя – Пырьев. В совет входили режиссеры – Александров, Роом, Васильев, Пудовкин, Герасимов, – операторы, художники, актеры и политические работники во главе с Поликарповым. Но это был обычный совещательный орган при министре кинематографии.
Помню последнее его заседание, состоявшееся в середине августа 1946 года. Председательствовал Пырьев, Калатозов – тогда зам. министра – докладывал о решении ЦК партии.
Заседание это было во многом знаменательным. Я пишу о том, что осталось в памяти и отражало состояние кинематографистов после обсуждения на Политбюро фильмов «Большая жизнь», «Иван Грозный», «Простые люди», «Адмирал Нахимов».
Дело в том, что в постановлении ЦК подвергались беспощадной критике прославленные мастера советского кино – Эйзенштейн, Пудовкин, Козинцев и Трауберг, Луков. Было сказано: «Режиссер Эйзенштейн во второй серии фильма „Иван Грозный“ обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского Ку-клукс-клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, – слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета».
Пудовкину ставилось в вину, что он «не изучил деталей дела и исказил историческую правду» [19] . Фильм Лукова «Большая жизнь» был подвергнут более подробному и уничтожающему разбору: «Рабочие Донбасса показаны отсталыми малокультурными людьми, с очень низкими моральными качествами. Большую часть фильма герои фильма бездельничают, занимаются пустопорожней болтовней и пьянством». В заключении констатировалось, что Художественный совет и кинематографисты дали совершенно необоснованную высокую оценку этим фильмам.
Эти заключительные строки постановления соответствовали истине – да, почти все смотревшие фильмы в те годы дали им самую высокую оценку Действительно, мастерство режиссеров проявилось здесь особенно ярко. И работа Эйзенштейна, и работа Козинцева, Трауберга [20] и Лукова вызвала единодушное признание. О фильме Пудовкина суждения были противоречивые. Я не буду характеризовать эти фильмы и существо постановления – это уже сделали историки кино. Время тоже сделало свое дело, и все эти фильмы увидели свет. Те же историки не раз переписали историю кино и исправили свои оценки. Тогда, после постановления, многим приходилось перестраиваться на ходу: либо отрекаться от того, что ты возносил и прославлял, либо отмалчиваться под любыми предлогами и пережидать. А создателям фильма – каяться и искать в себе силы, чтобы исправлять и «охорашивать» свое детище.
Калатозов, который сам принимал эти фильмы и восхищался ими, сейчас должен был подвергать их ожесточенной критике. Вид у него был печальный, но он бодрым натужным голосом читал свой доклад, пряча глаза в текст. Мне он потом признавался, что, придя домой после заседания Политбюро, не спал всю ночь и плакал. Но делать было нечего: он был заместитель министра, он принимал фильмы, сдавал их, так как Большаков в тот момент отсутствовал, и вот сейчас Михаил Константинович рассказывал собравшимся, почему фильмы, которые только вчера они принимали и хвалили, сегодня вдруг стали порочными…
Надо сказать, среди членов худсовета были и такие, которым не все было по вкусу в раскритикованных фильмах, но им не нравилось отнюдь не то, за что эти фильмы критиковались в постановлении.
Помню, после просмотра первой серии «Ивана Грозного», свой разговор с Хмелевым [21] , который сказал: «Фильм гениально нарисован и отвратительно сыгран». Примерно то же самое повторил мне и Дикий [22] после просмотра второй серии.
Большинство выступающих уже не возвращались к разбору картин, а, принимая оценку постановления как непреложную истину, искали причины, почему раньше им самим не пришло это в голову. По существу, все прения сводились к тому, как направить внимание художников и критиков в ту сторону, куда нацеливало постановление. «Иван Грозный» (вторая серия) стал последним фильмом Эйзенштейна. При жизни Сергея Михайловича он лежал в темницах Госфильмофонда. Картину увидели лишь много лет спустя после его смерти, как и небольшой этюд из обрезков «Бежина луга». Л. Лукову пришлось снять другой фильм о Донбассе – «Донецкие шахтеры»: он может служить образцом для рекламных проспектов, в нем нет ни малокультурных, ни выпивающих шахтеров.
Осенью же 1946 года, когда шло заседание худсовета, наиболее эмоционально почувствовал и передал настроение присутствующих Алексей Денисович Дикий. Он сказал: «Гроза!» Действительно, так можно было назвать события дня. Гроза над кинематографом. Дикий пытался объяснить ее отсутствием принципиального критерия при оценке картин, говорил о том, что в худсовете существует круговая порука…
Из режиссеров, чьи картины были подвергнуты критике, выступал только Пудовкин, и, надо сказать, его выступление было проникнуто истинным желанием разобраться в том, что с ним произошло. «Я совершил огромный творческий грех – взялся за картину, которая не выросла из моего сердца». Он несколько раз повторял эту мысль. Ниже, в своих заметках о встрече с Пудовкиным, я расскажу, как я представляю себе его переживания в связи с этой картиной.
В выступлениях других режиссеров – и Герасимова, и Пырьева – именно тогда впервые прозвучали слова о государственности кинематографа, о том, как велика ответственность каждого художника. Несколько раз повторялись слова Сталина о недобросовестном подходе многих мастеров к работе. Приводились его слова о творчестве Гете, который над «Фаустом» работал тридцать лет. Каждый вносил свою лепту, пытаясь понять, как выйти из создавшегося положения, когда пять фильмов, отлично принятых худсоветом, оказались раскритикованы. Не обошлось и без личных упреков – поисков тех, кто больше всего хвалил эти картины… Кинематографисты зачитывали и напоминали друг другу оценки фильмов. Многие каялись: уже чувствовалось, что скоро прозвучат слова Жданова, – а может быть, и уже прозвучали – о том, что каждая большая картина подобна выигранной битве, ибо она рассчитана на миллионы. Были разговоры и о семейственности, и о том, что оценка фильмов строится на приятельских взаимоотношениях. Композитор Захаров говорил: «Произведения, которые нравятся массам, нравятся и наверху. Это и есть критерий. Я понял это, когда готовил программу хора Пятницкого к правительственному концерту».
Заседание шло очень долго и сумбурно, в конце постановили в следующий раз конкретно разобраться в ошибках, для чего создали комиссию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: