Роман Перельштейн - Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
- Название:Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-076-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Перельштейн - Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве краткое содержание
В книге формулируется одна из архетипических тем киноискусства, являющаяся своеобразным кодом доступа в мир идей авторов художественного фильма. Обратившись к конфликту «внутреннего» и «внешнего» человека как теме не только игрового, но и документального, а также анимационного фильма, автор приподнимает завесу над драматургическим замыслом ряда вершинных достижений киноискусства ХХ века. Рассматриваются антропологические концепции экзистенциально ориентированных зарубежных мыслителей ХХ столетия, однако, взгляд на мировое кино, неотъемлемой частью которого является отечественный кинематограф, брошен преимущественно с высоты русской религиозной мысли, из недр «метафизики сердца», одного из важнейших, если не определяющих направлений отечественной философии. Книга предназначена для искусствоведов, историков кино, культурологов, философов, и всех тех, кто интересуется судьбами художественной культуры.
Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сравним с европейской традицией, отчетливо выраженной Гёте в «Фаусте»: «Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом» [422]. Как мы знаем, победу одерживает внешний человек Фауста, тленный человек – Мефистофель. «Фауст, – пишет К. Юнг, – сам неглубокий философ, сталкивается с темной стороной своего существа, своей зловещей тенью, Мефистофелем» [423]. Внешний человек в духовном смысле есть наша Тень. «Тень персонифицирует все то, что человек отказывается признавать в самом себе, и все, что он прямо или косвенно подавляет, как то – низменные черты характера, всякого рода неуместные тенденции и пр.» [424], но в то же время Юнг не забывает оговориться, что тень «состоит не только из морально предосудительных тенденций, но включает в себя и целый ряд положительных качеств, как то: нормальные инстинкты, сообразные реакции, реалистическое восприятие действительности, творческие импульсы и т. д.». Перечисленные Юнгом положительные стороны тени перекликаются с теми качествами, которыми должен обладать человек играющий , что лишний раз заставляет задуматься о связи между внешним человеком и игрой в другого , как ролевым существованием.
6.
Даосско-буддийская традиция, трактует явь как сон. Восток так и не разрешил одну из самых красивых своих загадок. «Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой – счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она – Чжуан Чжоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я – Чжуан Чжоу. И я не знал, то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он – бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она – Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое превращение вещей!» [425]. Чжуан Чжоу вовсе не настаивает на том, что он бабочка, но реальность настолько текуча, настолько изощрен ее узор, что в нем не мудрено и затеряться. «Вся тьма вещей – словно раскинутая сеть, и в ней нет начала» [426], – говорит тот же мудрец. К этому изречению, являющемуся, как пишет известный китаевед В. Малявин, ключевым понятием китайской эстетики [427], остается добавить лишь то, что из символической сети вещей, какими бы ни были крупными ее ячейки, не ускользнет ни одно из превращений, включая перевоплощение спящего философа в бабочку, а спящей бабочки в философа.
Философия сновидения и философия опьянения китайского мудреца Чжуан-цзы, или Чжуан Чжоу, не оставляет без внимания конфликт внутреннего и внешнего человека. Сновидение и опьянение, как особая форма отказа от разума, помогает человеку избавиться от внешних, а потому ложных ориентиров и обрести ориентиры внутренние , истинные. Неудивительно, что следствием забвения разума становится забвение слова. Чжуан-цзы вопрошает: «Где мне найти человека, который забыл все слова, чтобы с ним поговорить?» [428]. Но глубокомысленное безмолвие мудреца, замечает В. Малявин, не означает молчания. Как говорил Чжуанцзы, «кто постигает смысл, забывает слова» [429]. Арсений Тарковский, описывая едва ли не бабочку Чжуан-цзы, прибегает к метафоре, навеянной китайской премудростью: «А имя бабочки – рисунок, / Нельзя произнести его…» [430]. И трудно не заметить, что китайский мудрец Чжуан-цзы не столько отказывается от разума, сколько заменяет его парадоксальной логикой, граничащей с тем знанием, которое «и не снилось нашим мудрецам». Восток склонен к иносказаниям, намекам, аллюзиям. «Вечные сумерки» и образ «туманной дымки» – синонимы китайской живописи. Восток не договаривает и оставляет открытыми финалы своих притч, потому что искренне пытается забыть слова. Забыть слова в их, применительно к европейской традиции, если такая аналогия допустима, гамлетовском понимании: «слова, слова, слова». Утомленный колкостями, на которые Гамлет так щедр, Полоний восклицает: «Как проницательны подчас его ответы! Находчивость, которая часто осеняет полоумных и не всегда бывает у здравомыслящих» [431]. Полоний словно бы вторит Чжуану-цзы, не склонному доверять рационально-рассудочному познанию.
Акт абсолютной свободы в буддизме превосходит все оппозиции, в том числе и конфликт внутреннего и внешнего человека. Но недуальность, в которой исчезает противопоставление просветленности и помраченности, связана с отказом от мира , а это условие невыполнимо для сокровенного сердца человека христиан. Конфликт внутреннего и внешнего человека отражен до известной степени в рассказе об «укрощении буйвола пастушком» [432]. За «опознанием буйвола» в себе и его последующим усмирением, в результате чего усмиряющий умирает для мира, следует покой: пастушок и буйвол возвращаются в родной дом. Эта идиллия, напоминающая Адама до Грехопадения, возможна только в том случае, когда человек черпает себя из самой природы и считает ее хрустальные ключи изначально незамутненными. Так, благоговение перед Природой, свойственное, в частности, японскому искусству, ставит под сомнение все сверхприродное, а значит и метафизическое. Однако соприкосновение с Небытием, с Восточным Небытием, а оно есть полнота бытия, в которой пребывает абсолютно все, становится возможным через «сверхчувство», то есть через чувство в своей полноте, достигшее беспредельности [433]. Метафизика, с точки зрения европейского сознания, немыслима вне категориальных противоположностей, а значит, и вне некой абсолютной смысловой симметрии, но абсолютной симметрии в природе нет. Свойством японской культуры является приверженность асимметрии, которая есть едва ли не символ самого бытия во всей его необъятности и непостижимости.
Принцип асимметрии является ключевым и для китайской живописи. Пейзаж по-китайски, пишет В. Малявин, означал «горы и воды». Горы не могут быть симметричны воде, а ведь именно эта оппозиция отражала сочетание светлого и темного, устремленного вверх и стремящегося вниз. А раз нет симметрии, значит, нет и фиксированного центра. Знаком фиксированного центра в классической европейской цивилизационной картине мира является Логос, и он же – символ Непостижимого и беспредельного. Так, Логос («В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1.1)) является второй ипостасью Святой Троицы: евангелист повествует о Христе как о божественном Логосе, или Слове. Функция подобного знака в китайской живописи закреплена за понятием декоративности. С одной стороны декоративность характеризуется отсутствием центра, а с другой – беспрестанным поиском равновесия, которое наличие центра предполагает. Таким образом, плавающий центр бытия и подвижное равновесие его сил, этакая «сверхтекучесть», являются проводниками символической реальности, которую и пытается передать китайский художник. Излюбленный в китайской живописи изгиб ветвей не зеркален завихрению облаков, а петляющая горная тропа не зеркальна петляющему потоку воды, хотя в рамках категориального аппарата различных философских направлений западной мысли эти образы-понятия симметричны. Как симметрично семантическое значение понятий верха и низа, светлого и темного, внутреннего и внешнего. Все это говорит о том, что Восток находится под сильнейшим впечатлением от способности проникновения друг в друга противоположных начал и земной перспективой их гармонического слияния друг с другом. Восток и акцентирует внимание на том общем, что объединяет противоположные начала. Христианская же цивилизация, отдавая должное компромиссу противоположных начал, таких важнейших, как дух и природа, человек внутренний и человек внешний, находится под сильнейшим впечатлением от их коренного и не устранимого в исторической, земной перспективе различия. Поэтому Восток, не менее увлеченный поиском самого себя, чем Запад, и говорит, что симметрия мешает прислушаться к Небытию, она же является препятствием на пути к вечно ускользающей, через намек и отзвук явленной Истины. Само явленное есть только отзвук незримого, и отзвук недолговечен, как «бледноликие цветы сакуры» [434]. Но именно в силу этой недолговечности, изменчивости, способности к перевоплощениям явленное и прекрасно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



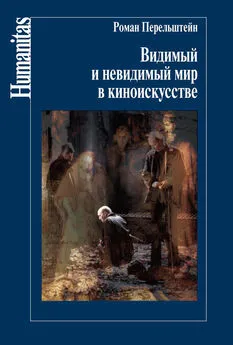


![Эсме Швалль-Вейганд - Выбор [О свободе и внутренней силе человека] [litres]](/books/1075252/esme-shvall.webp)

