Роман Перельштейн - Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
- Название:Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-076-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Перельштейн - Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве краткое содержание
В книге формулируется одна из архетипических тем киноискусства, являющаяся своеобразным кодом доступа в мир идей авторов художественного фильма. Обратившись к конфликту «внутреннего» и «внешнего» человека как теме не только игрового, но и документального, а также анимационного фильма, автор приподнимает завесу над драматургическим замыслом ряда вершинных достижений киноискусства ХХ века. Рассматриваются антропологические концепции экзистенциально ориентированных зарубежных мыслителей ХХ столетия, однако, взгляд на мировое кино, неотъемлемой частью которого является отечественный кинематограф, брошен преимущественно с высоты русской религиозной мысли, из недр «метафизики сердца», одного из важнейших, если не определяющих направлений отечественной философии. Книга предназначена для искусствоведов, историков кино, культурологов, философов, и всех тех, кто интересуется судьбами художественной культуры.
Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Особый сон кинозала сюрреалист Антонен Арто считал даже менее подлинным, чем сон, который навевает театральная сцена. Театр, согласно Арто, «средство для создания истинной иллюзии», которую он творит, «обеспечив зрителя достоверным осадком сна» [439]. Какова же концепция сюрреалистического театра Арто? «Арто скрупулезно картографирует свои «сокровенные глубины», сосредотачиваясь на топографии разума в его крайних состояниях». Напомним, что «творческая сила» Арто позволяет, как пишет А. Адамов, «снять с существования маску из плоти и добраться до чудовищного скелета вещей» [440]. Но это разоблачение жизни до костей есть всё то же анатомирование, расчленение, рассечение бытия, разбирание бытия на атомы. Сюрреалист «без ума» от разума в его крайних состояниях, но он ходит вокруг да около земного «земляного» разума, его интересуют только оболочки внутреннего человека, его маски. Сюрреалистический театр Арто «засыпает ров между жизнью и искусством» [441], чтобы превратить жизнь в магический ритуал. Но разве не скомпрометировали себя эти шаманские практики в ХХ в., расчистив место для земных царств с их страшными колдунами в кепках и фуражках, между которыми нет-нет да и мелькнет венок Диониса? Так, тотальный театр Арто, театр «жестокости» отлично зарифмовался с тоталитарной действительностью. Магический ритуал, к какой бы свободе он ни звал, какую бы полноту и остроту ощущений ни сулил, как ни порочил бы все рациональное и ни воспевал все чувственное, остается одним из рычагов авторитарного мышления, которое опирается на культ силы и мощи, молодости и свежести. С возрождением магически-ритуальной природы искусства возрождается и магически-ритуальная природа общественно-политической жизни, жизни духовной, что неминуемо отбрасывает человека в дохристианские сумерки. Обряд духовного очищения, к которому якобы стремится «чистый театр» или «театр жестокости», «ликвидируя линию водораздела между актерами и публикой», оборачивается обрядом духовного порабощения.
Ничего нового ни Арто, ни предвосхитивший его Евреинов не открыли. Они не сумели восстановить целостность реальности через абсолютную погруженность в игру, потому что, прибегнув к магии, посягнули на свободу человеческого духа, который один способен вернуть реальности ее глубину и целостность; потому что пытались разглядеть очертания будущего в магическом миросозерцании, в иероглифических потемках древних культур, которые знали только культ плодородия и силы и исповедовали религии природы [442].
В XIX и ХХ вв. окончательно оформился новый образ маски, рожденной Ренессансом, маски как темной и опасной стороны научно-технической революции. Так, с маской связан романтический ужас перед распоясавшейся машиной, который, согласно П. Пепперштейну, прибавился к традиционному ужасу перед мертвецом. На лице мертвеца и машины отсутствуют эмоции, их лица бескровны, это «конкистадоры в панцире железном», то есть существа в масках. Страх перед мертвецом, поднимающимся из могилы, стал почти безупречным, после того как прозрел за могилой ещё большую угрозу – машину, вышедшую из повиновения. Эта «машина» – уже не шекспировский Гамлет, который словно бы проговаривается, называя самого себя «машиной», чем и объясняется весь дальнейший автоматизм [443]действий Гамлета, эта «машина» – Офелия из повести Ю. Олеши «Зависть» – дитя прогресса, явившееся как бы с того света. Офелия у Олеши воскресает в облике несущей разрушение и смерть машины, так мстит девушка, сошедшая с ума от любви, так мстит сама обманутая любовь. Машина является Кавалерову в бреду или во сне, механическая Офелия – продукт подсознания Кавалерова, но действует она, с точки зрения машины, которой причинена человеческая боль, вполне разумно. Ведь это «умная машина» [444]. Независимое от внутреннего человека существование маски, которую он надевает, не может не настораживать. Маска вовсе не пассивна.
Мертвец и машина отбрасывают тень на лицо внутреннего человека, делая его лицо похожим на все лица сразу, как это происходит при эксперименте Фрэнсиса Гальтона, который описывает Фрейд, иллюстрируя «работу» бессознательного, «сочиняющего» фантазмы. Мы приведем описание эксперимента Гальтона, взятое из книги В. Михалковича «Избранные российские киносны»: «на одну… светочувствительную пластинку последовательно фотографируются или разные лица, или одно и то же лицо, но с разными выражениями». Притом «черты, которые общи всем сфотографированным… резко выступят…», а те, что «встречаются реже, проявятся менее отчетливо». Наконец, «индивидуальные, единичные особенности вовсе исчезнут. Получится коллективная фотография, которая будет похожа на всех сфотографированных и не будет ничьим в отдельности портретом» [445]. Речь в эксперименте Гальтона идет о видимом и поддающемся фиксации. Оно в итоге было интерпретировано как символ «коллективного бессознательного». Мы же говорим о внутреннем человеке, для которого процедура обезличивания протекает болезненно в отличие от «коллективного бессознательного» индивидуальности. Индивидуальность, в самом широком смысле этого слова, и есть наш внешний человек, которого характеризует «физическое тело, биологические элементы и процессы, материальные наклонности души» [446], в том числе, как мы полагаем, и «коллективное бессознательное». Механизм «типизации», «сгущения», усреднения лица, тот же самый механизм, что и в случае с фотоснимком, убийствен для внутреннего человека. Такое усредненное лицо не является ничьим в отдельности лицом, оно – собирательный образ, за которым стоит бесконечный мутный поток желаний массового человека, сотворенного по образу и подобию внешнего человека. А массовый человек переступает порог «комнаты желаний» так же автоматически, механически, как и все, что он делает, уподобляя себя одновременно и машине и мертвецу.
Мы не станем вникать во все хитросплетения фабулы фильма Фрица Ланга «Метрополис» (1927). Остановимся лишь на одном весьма важном моменте этого грандиозного замысла. Пока сентиментальные теоретики размышляют о связи между головой и руками, и на луче, их соединяющем, ищут с энтузиазмом моралистов и щепетильностью архитекторов месторасположение сердца, еще более сентиментальные практики конструируют в засекреченных лабораториях искусственных людей. В конечном счете, практики лишь материализуют метафору теоретиков. И если теоретики-политики работают над идеалом сверхдержавы, то практики-ученые увлечены изготовлением сверхчеловека. Если бы мы попробовали «выбросить» из фильма «Метрополис» сюжетную линию ученого Ротванга с его гениальным изобретением, то история, рассказанная Лангом, осталась бы хотя и масштабной, но весьма посредственной аллегорией в духе просветителей-рационалистов. Ротванг с его человеко-машиной доводит «этику прогресса» до логического завершения, сначала окружив человеческий разум демиургическим ореолом, а затем погрузив его в пучину хаоса. Существование сентиментального, но бессердечного злодея Ротванга бросает такую тень на сделку головы и рук при фиктивном посредничестве сердца, после которой ее едва ли можно признать состоявшейся. Ротванг разрушает иллюзию возможности построения рая на Земле. Сколь бы ни были слезливы и благородны в глубине души правители метрополисов, сколь бы ни были чисты помыслы их избалованных, но сохранивших идеалы добра и справедливости сынков, сколь бы ни были прекрасны и самоотверженны девушки, составляющие партию этим сынкам, пока существуют гениальные ученые ротванги, изготовляющие послушных двойников-марионеток по просьбе коварных правителей, вопреки их прекраснодушным сынкам, копируя богобоязненных девушек (а ротванги – истинные отцы метрополисов), гармония между человеком и обществом достигнута не будет. Ведь Лже-Мария, Мария-робот – это иррациональная, деструктивная, темная сторона человеческой психики, которую невозможно отторгнуть от нас физически, взять и сжечь на костре. И уж тем более немыслимо избавиться от нее под рев и топот упивающейся местью толпы, так как обездвиженная, связанная по рукам и ногам Мария-робот успела наэлектризовать толпу, вернуть массовому человеку вызревшие в недрах толпы движения. Именно в недрах толпы, в недрах бессознательного, а вовсе не в секретных лабораториях ученых-одиночек.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



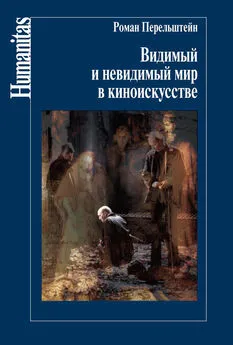


![Эсме Швалль-Вейганд - Выбор [О свободе и внутренней силе человека] [litres]](/books/1075252/esme-shvall.webp)

