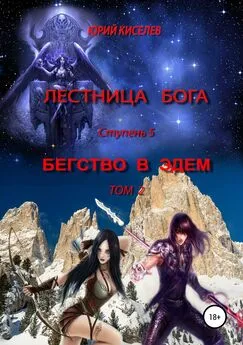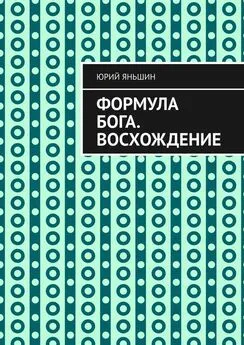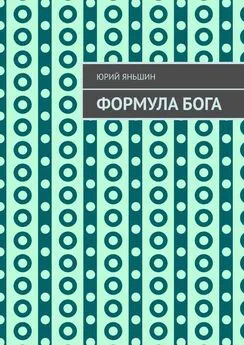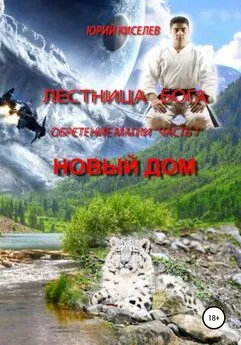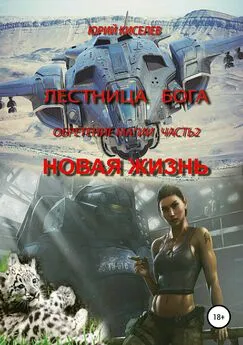Юрий Асланьян - Территория бога. Пролом
- Название:Территория бога. Пролом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2009
- Город:Пермь
- ISBN:978-5-88187-398-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Асланьян - Территория бога. Пролом краткое содержание
Автор предлагает читателю детективный сюжет, но в результате расследования на первый план выходят вечные темы — судьба, предназначение, поэзия, верность себе и своему делу, человечность…
Под взглядом одинокого Бога все происходящее на дальней северной территории имеет смысл и ничто не проходит напрасно.
Территория бога. Пролом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Это гармонь моего сына, он погиб в партизанах, — ответила ему Анна Михайловна.
Что может быть для матери дороже сына? Или памяти о нем?
И офицер отступился…
Солдаты сгоняли семьи к колонне автомашин, вытянувшейся по деревенской улице. С котомками и мешками бежали к ней люди — старики и дети. У Саркиса Шаганова жена была русской, поэтому ей с четырьмя детьми предложили остаться. «Я поеду с мужем!» — ответила Мария.
Карасубазар — базар на Чёрной речке. Место торговли невольниками, захваченными во время набегов на русские земли. Через морские порты невольников увозили в страны Запада и Востока. Армянака увезли в Германию. Мусульманские фанатики, немецкие фашисты, советские коммунисты… «Сер черт, бур черт, все одно — бес!» — гласит армянская пословица. Недаром Достоевский, в девятнадцатом веке разглядев мерзкий зародыш двадцатого, назвал свой роман «Бесы». Далеко видел, пророк…
Под надежной охраной солдат армянская деревня выехала через Васильевку в степь, к железнодорожной станции Сейтлер. И через несколько часов их выгрузили на пустыре, где вавилонской толпой собрались крымские народы: греки из Карасубазара, болгары из Кабурчака, армяне из Пролома… О том, что происходит, люди могли только догадываться. Все были потрясены и напуганы. Но вот по железнодорожным путям подогнали состав с вагонами для телят — для скота то есть.
Печальной и длинной была дорога в неизвестность, для многих, особенно стариков, безвозвратной. В тамбурах стояли часовые. Люди спали на полу, на станциях им выдавали похлебку и кипяток. В одном вагоне с семьей деда Давида ехала тетка Тушик и ее сын Вартан Егикян — с женой и тремя детьми. Старший сын Вартана, танкист, погиб на фронте. Показался большой город. Бывалые старики узнали: Ростов! Вот тут должен был учиться на летчика Гурген. На вокзале в Казани Ованес увидел голодные глаза татарских пацанов и начал жменями раздавать им кукурузные зерна, из последних семейных запасов… И вот показались темные большие ели. «Елки! Нас везут на Урал!» — догадался дядька Вартан. Известен Урал…
Мудры старики, мудры и наивны, как все любящие и жаждущие любви, справедливости. Поэтому, когда из Свердловской области состав потянули обратно, даже многоопытные обрадовались: домой! И каково же было в тот момент горе семьи Асланян! На одной из станций Ованес с Богосом выскочили на перрон и заскочили в вагон через другой тамбур, а дед Давид пошел искать детей на вокзал. Состав тронулся — и оставил старика одного, на краю света. Господи, что он пережил? Об этом дед Давид расскажет только через пять лет, когда найдет жену и сыновей там, откуда на родину уже не вернется никогда. Но Бог, прежде чем забрать Давида, даст ему счастья пожить с родными.
Безутешно плакала в вагоне Анна Михайловна, но состав назад не возвращался. Он повернул на север, оставляя в Губахе, Кизеле и Яйве тех, кто уже приехал. А когда железная дорога кончилась, крымчане увидели Соликамск. Здесь людей погрузили на баржу и потянули ее катером вверх, еще дальше, по красивой реке Вишере! То белая песочная коса, то сосны на высоком берегу… Тянули их долго, пока не показалась слева синяя громада горы, а справа — похожий на рубку подводной лодки главный корпус Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, который воздвигли на берегу реки в начале тридцатых годов заключенные.
3
Одним из тех заключенных был мой дед по материнской линии Павел Сергеевич Кичигин, через два месяца после ареста ушедший в полугодовой побег. Нелегко охране поймать местного человека, чалдона из деревни Кичигино, охотника.
В двадцать восьмом году Павел женился на Лидии, которая после развода с первым мужем осталась с грудным мальчуганом — Егоркой. Павел землю пахал, сено косил, рыбачил и охотился. Имел большой дом у леса. «Красивый был, очень красивый — и рубаха красная, а как на гармошке играл!» — вспоминали его. В тридцатом году у Павла и Лидии родилась дочь Паша, моя мама. В тридцать третьем Павел, пытаясь спасти семью от голода, пошел ночью на колхозное поле и собрал в перевязанную с одного конца юбку Лидии десять килограммов пшеницы с мякиной. Деревня Кичигино стояла на высоком берегу реки Язьвы — десять дворов всего, свои да наши, все Кичигины.
«Ты сама ему юбку дала!» — кричала на Лидию соседка, жена Ивана Григорьевича, который засек Павла ночью, а утром уже доложил кому следует. Донес соседушка. А зачем донес-то? «Да темные все были, неграмотные, выслужиться перед властью захотел, — отвечает за него моя мама. — А потом сами же нам и помогали, и сало давали, и хлеб». Так-то оно так, вот только Иван Григорьевич до старости прожил. Всех пережил, «темный».
Павла Кичигина арестовали и посадили в красновишерский лагерь, из которого он вскоре и сбежал — ушел в леса. Знал Павел, где избушки стоят, зимовья, мог пройти через болота в недоступные для других места. Долго скрывался. И Лидия ходила в лес, носила еду и одежду туда, где ждал ее Павел, сидя в холодной темноте у костра за речкой Камшой. А иногда он сам пробирался в свой дом, чтобы повидать детей, погреться. И вот он вошел в дом со стороны леса, через коровник, а навстречу ему — конвойные. Ждали его охраннички. Павел как увидел их, так сразу и упал, потерял сознание — будто смерть свою в лицо узнал.
Пришло время, и вызвали Лидию Никаноровну в Красновишерск, сообщили коротко: умер муж. Обратной дороги — пятьдесят километров. Вышла Лидия из города, но рассудок ее так помутился от горя, что сбилась с дороги и заблудилась. Где шла и как вышла — ничего не помнила. Потом мужик один, знакомый из деревни Бычино, служивший в том лагере стрелком, сказал ей тихо, что не умер Павел, что расстреляли его за побег.
И сразу ушла из дома свекровь — к дочери, забрав корову и все остальное, от посуды до печной вьюшки. Пустой дом и двое малолеток в нем… А вскоре появился у нее и третий ребенок, дочка Аннушка, которую успел оставить ей Павел. «Матери вечно дома не было — все пожрать нам искала, все работала, а мы Анну в люльке качали. Прожила она года два». Жить без хозяина в доме у леса было боязно, и Лидия обменяла его на старый в самой деревне. Этот дом был холодным, да и хозяйка не всегда успевала топить печь, уходя на заработки в другие деревни. В этом доме у нее родилась дочка Клава. От простуды у Клавы на голове нарыв вырос — умерла тоже. А в тридцать девятом появился на свет Миша, нежный светлокудрый мальчик. Напуганный в малолетстве, Миша на всю жизнь остался слабоумным, навсегда сохранил улыбку младенца.
Летом Лидия работала в колхозе, а зимой — уборщицей в школе. Братья Иван и Василий, жившие неподалеку, в деревне Желубаево, помогали Лидии, чем могли, хотя могли немногим, ведь и свои семьи были немаленькими. Василий работал завхозом в больнице, а Иван землю пахал. Потом он ушел на фронт, после войны служил на Украине, где и умер от ран. Братья были добрыми и часто забирали Лидиных детей к себе. А Паша честно отрабатывала свой хлеб нянькой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
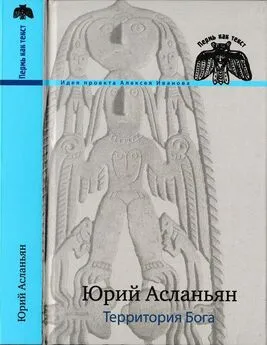

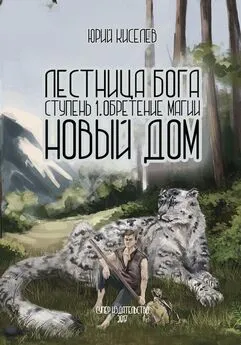

![Юрий Асланьян - Дети победителей [Роман-расследование]](/books/1076065/yurij-aslanyan-deti-pobeditelej-roman.webp)