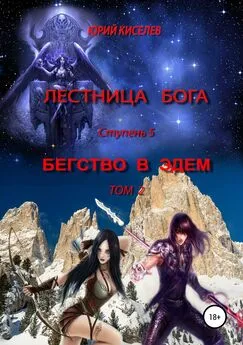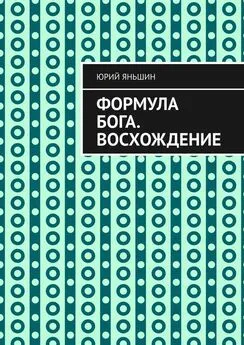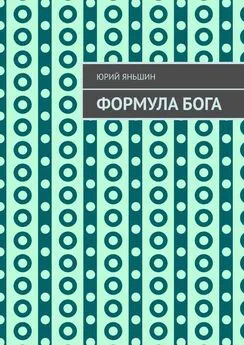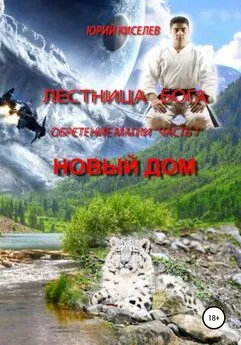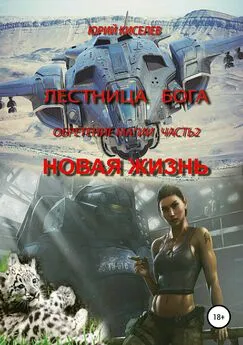Юрий Асланьян - Территория бога. Пролом
- Название:Территория бога. Пролом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2009
- Город:Пермь
- ISBN:978-5-88187-398-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Асланьян - Территория бога. Пролом краткое содержание
Автор предлагает читателю детективный сюжет, но в результате расследования на первый план выходят вечные темы — судьба, предназначение, поэзия, верность себе и своему делу, человечность…
Под взглядом одинокого Бога все происходящее на дальней северной территории имеет смысл и ничто не проходит напрасно.
Территория бога. Пролом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После гибели мужа жизнь, похоже, ни разу не улыбнулась Лидии. А потом взяла еще круче…
4
Баржа причалила к крутому песчаному берегу, на котором виднелись деревянные дома, черные бараки и заборы. Стояли и смотрели вниз люди — рядом был городской базар. Армян и болгар высадили на берег, дальше их не повезли — северней города из спецпереселенцев жили только крымские татары и цыгане. Потом на газогенераторном ЗИСе вновь прибывших партиями начали перевозить к зданию самой большой школы в районе, из серых кирпичных стен которой почти через три десятилетия выйду я с аттестатом зрелости. На этой же единственной комбинатовской машине — такая честь! — свозили переселенцев в городскую баню и обратно. Месячный карантин они провели в школе. Жили в классах, ели вареную репу и гороховую похлебку. Вскоре Ованеса вместе со старшими стали посылать на сельхозработы и прокладку лежневок. Там его и стали называть Иваном. Только вот не знал он тогда, что для себя дороги эти торил — на всю жизнь, до самой пенсии. И на охоту по ним ездил.
— У начальника НКВД фамилия Бологов была, — говорит он.
— А как его звали? — спрашиваю.
— Я только у хороших людей имена помню, — отвечает Иван Давидович.
Я же говорю — армянская у него память… Поэтому и не помнит, как звали офицеров Нетудыходу, Ничкова, Злобина, похоже, недаром носившего такую фамилию. Этот последний, комендант, страшно невзлюбил Анну Михайловну за жалобы и письма, которые та постоянно отправляла в Москву. Зато Иван Давидович за руку здоровался с Александром Шишигиным, бывшим комендантом поселка Лагерь. «Хороший парень, не орал, не унижал людей и пропуска всегда выписывал». Руки на Вишере просто так не жмут.
Под видом шмона — оружие, дескать, ищу — Бологов решил в первые же дни попотрошить переселенцев, порыться в крестьянских котомках. И правда, оружие он нашел сразу — забрал у отца трофейный нож-складень. Хотел было прихватить и гармонь Гургена, но мать второй раз отстояла ее. Армяне быстро поняли, что надо этому офицеру. И старики сказали женщинам: «У кого есть золото, надевайте на себя!»
Битые были старики — не посмел энкавэдэшник сдирать кольца с рук и выдергивать серьги из ушей, понимал: уголовщина это. И не только это понимал, быть может… В пятьдесят шестом Бологов сам себя казнил — повесился.
Когда карантин кончился, армян расселили по городу. Анне Михайловне с детьми дали девятиметровую комнату в коммунальной квартире двухэтажного дома по улице Пролетарской. Эти черные дома, эти белые сортиры и будки водокачек стоят в городе до сих пор. И в этих деревянных памятниках живут люди…
Мать была стара, а брат — мал. Поэтому Ованес (Иван) работал один, ведь в скотском вагоне сталинской железной дороги ему исполнилось шестнадцать лет. И он получил свой аттестат зрелости. По этому аттестату ему выдали лапти и суконную куртку, определив грузчиком в ПРК комбината. Он стал получать шестьдесят рублей в месяц и на эти деньги покупать по карточкам хлеб: пятьсот граммов для работающего и двести — для иждивенцев. Тяжело пришлось тогда крымчанам, голода не знавшим, туманного холода не видавшим. В квартире, кроме них, жила семья Бесковых — родители и две дочери. Сын погиб на фронте. Понимали люди: старуха и ее дети не могли быть предателями. И завхоз военкомата Павел Степанович Максимов, живший за стенкой, помогал картошкой — хороший человек. Но такими были не все…
Однажды Анна Михайловна пошла в деревню Морчаны за крапивой для супа. И местные пацаны жестоко избили женщину, метясь и попадая камнями в голову. В крови пришла домой. «Предатели! Предатели!» — так называли тех, чьи сыновья остались лежать в крымских горах.
Когда армян привезли на Вишеру, татары уже были здесь. Они валили лес и катали бревна на лесоскладах. Работали на лесопунктах — в поселках Мутиха, Парма, Тепловка и других. Много было татар, как в Карасубазаре. Среди них нашелся и знакомый — Смаил Ибрагимов из деревни Алямма, что значит «поворот». Тайга Северного Урала — вот где встретились крымчане, вот это поворот. И до сих пор в дом моего отца приходят друзья — крымские татары, оставшиеся жить на Вишере. И болгары приходят.
Лихая жизнь досталась в тот год цыганам. Зная свободолюбивый нрав артистов, гастролеров и гадалок, чекисты постарались забросить их подальше на север. И все равно не переломили хребет этому народу. «Мы не сажали этот лес — кто его сажал, тот пусть и рубит!» — дерзко огрызались они. И в первые же два года цыгане бежали «в сторону южную». Мужчины, женщины и дети шли пешком, летом и зимой, замерзая в снегу у дороги. Но ушли все — хоть на тот свет.
Первая зима на Урале стала последней и для многих армян — старики умирали. Не выжил Саркис Фундукян, не пережил ее заместитель председателя проломовского колхоза Аведис Захарян, занимавшийся до войны разведением гусениц, свивавших в коконы шелковые нити для будущих парашютов. Похоронили и дядьку Вартана, который первым понял, куда их везут. Пережила сына мать Вартана — тетка Тушик, помнившая турецкую резню, жившая в бараке сангородка. Сосновые гробы везли за город каждый день.
Один раз в неделю спецпереселенцы обязаны были отмечаться в комендатуре. Им запрещалось покидать город без специального пропуска. Двадцать лет каторжных работ в лагерях еще более северных широт обещала им за нарушение этого правила бумага, которую подписал каждый. Но в первый же год ушел в побег Ардаш Захарян, жена которого, Гугарик Богосян, была, как уже говорилось, одной из первых проломовских подпольщиц. Ардаша поймали и посадили за колючую проволоку, но почти половину двадцатилетнего срока ему скостил двадцатый съезд. Он освободился в пятьдесят шестом.
Мой отец грузил на баржи бумагу, возил тачкой сучья. И рядом с ним горбатился одногодок и друг болгарин Миша Нагалов из Коктебеля, отца которого, коммуниста, расстреляли немцы. Родной брат Миши, двенадцатилетний Петя, тоже ушел в бега со своим другом и пропал навсегда…
5
Старшему сыну Лидии Егорке было лет десять, когда кто-то из деревенских рассказал ему о судьбе его отца. Егорка взял топор и пошел к дому Ивана Григорьевича. В доме никого не оказалось, и он, как в припадке, изрубил топором дверь. Потом хозяева поймали его и избили, некому было заступиться за безотцовщину… Егорка отмахивался от жизни сам — рос угланом резким и смелым. Уходил из дома и спал в лесу, гонял на лошадях и бил острогой рыбу.
Егорка был почти ровесником моего отца. А матери, когда началась война, исполнилось одиннадцать лет.
«Мы с Егоркой землю весной боронили, босиком, а земля холодная, твердая — все пятки в крови. Лошадь раз по тридцать за день падала. Я тяну ее вожжами, тяну, вся вымотаюсь. Зимой-то лошадей соломой кормили… Да и сами ничего не ели, ведь наша семья беднее всех жила, коровы не было. Летом ягодами да рыбой кормились — женщины деревенские пойдут на реку, наловят три-четыре ведра, а мы, дети, сидим все вместе, чистим ее. Мать-то моя слабохарактерной была, но трудолюбивой. Осенью мы с ней ходили копать людям картошку, а зимой имели от них — кто мешок даст, кто два. Взвалю я мешок на санки и везу домой, а гора перед нашей деревней крутая-крутая… Но картошки все равно не хватало, и к весне дело доходило до пихтовой коры. Сушили ее, толкли, добавляли стакан крахмала или муки, если была, и пекли лепешки. Дерево ели. Когда снег сходил, откапывали на полях гнилую картошку — и ее ели. Потом я увидела, что полевые мыши прячут в норах зерно, под стогами. Я стала лазить в норы рукой, разрывать их, доставать зерно оттуда. Домой приносила — мать меня „мышкой“ называла… В сорок третьем у нас появился братик Витя — кормить его надо было. Сразу после войны я пошла работать уборщицей в школу, и мне давали по карточке пятьсот граммов хлеба. Я кусочек сама съем, кусочек домой несу. Открою дверь, а он сидит на печке — кожа да кости, ручки ко мне протягивает и лепечет: „Еб! Еб! Еб!“ — хлеб, значит. Парализовало его от холода и голода, тоже умер… Холод был такой, что Миша прямо в печку залазил, в русскую, и сидел там. Вот такая жизнь у нас была, японский бог…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
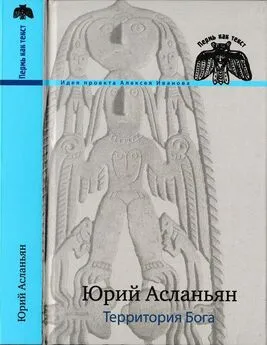

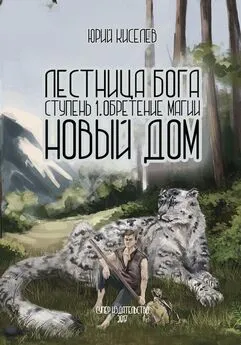

![Юрий Асланьян - Дети победителей [Роман-расследование]](/books/1076065/yurij-aslanyan-deti-pobeditelej-roman.webp)