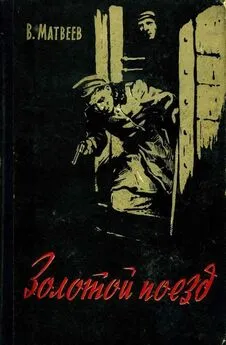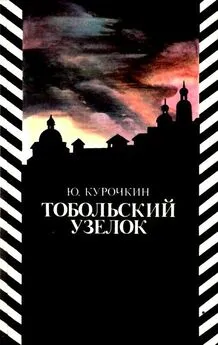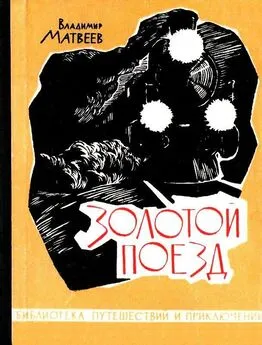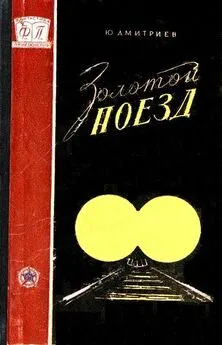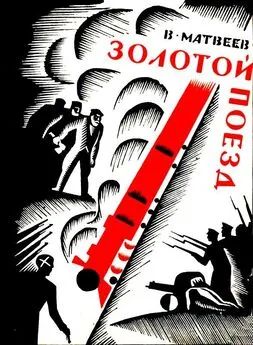Владимир Матвеев - Золотой поезд. Тобольский узелок
- Название:Золотой поезд. Тобольский узелок
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пермское книжное издательство
- Год:1971
- Город:Пермь
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Матвеев - Золотой поезд. Тобольский узелок краткое содержание
Он родился в 1898 году в Перми. В августе 1917 года, будучи студентом, вступил в большевистскую партию. В 1918–1920 годах был на советской, военной, партийной и газетной работе в Перми, Екатеринбурге и других городах Урала. Позже работал в Петрограде — Ленинграде, где и написал повесть «Золотой поезд» (другое название «Комиссар золотого поезда»).
В предисловии к одному из изданий повести писал о своей литературной работе:
«Я занимался журналистикой, военной и партийной работой и никогда не думал писать повести и рассказы.
Но вот однажды в кругу своих друзей я рассказывал о том, как мы боролись на Урале за Советскую власть.
Когда я кончил рассказывать, все молчали. Один товарищ сказал: „Вот ты бы и написал об этом“.
„Не все помнят первые годы Октябрьской революции“, — подумал я и решил написать повесть „Комиссар золотого поезда“ — о революции на Урале…»
В. П. Матвеев умер в 1939 году.
Запутанной и сложной операции уральских чекистов — поиску драгоценностей, запрятанных в Тобольске семьей последнего русского царя, Николая Романова, посвящена повесть Ю. Курочкина «Тобольский узелок». Лишь пятнадцать лет спустя после кропотливых и настойчивых поисков чекистам удалось вернуть драгоценности их истинному хозяину — народу.
Автор этой книги Юрий Михайлович Курочкин — уроженец Пермской области (родился в 1913 году в г. Чусовом). По профессии он журналист, со дня основания журнала «Уральский следопыт» заведует в нем отделом краеведения. В Свердловске, Челябинске и Перми издал семь книг, в том числе в «Библиотеке путешествий и приключений» книгу «Легенда о Золотой Бабе» (Пермь, 1963 г.). Очерки Ю. М. Курочкина печатались во многих журналах и газетах.
Золотой поезд. Тобольский узелок - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А вы хочет, чтоб я бул мертвая? — отпарировала Преданс.
Михеев тщился не улыбнуться, слушая перепалку старых знакомых.
— Мстишь, Полина Касперовна? — обратился к ней Каменщиков, выслушав записанные Михеевым ее показания.
— Ненавижу вас, жадины! — вырвалось из-за стиснутых зубов у Преданс.
— Не жаднее тебя, Касперовна, — усмехнулся Каменщиков. — Знаем ведь, на что злыдничаешь… А что касается моей личности, то гражданин следователь изволит знать, кому я шпагу цесаревича передал и может ли какой дурак царскими ожерельями на базаре торговать.
Преданс не отвечала ему, высокомерно отвернувшись и комкая окурок своей «Пушки».
— А сама Преданс принимала участие в этих ваших делах?
— В нашем, осмелюсь заметить, нет. А, знаю, хотелось ей. Но только не было приказа допускать ее до этого дела. И, верно, не зря. После Полина Касперовна весьма настырно изволила шантажировать нас — и отца Алексея, и Терентия Ивановича Чемодурова, и нас с супругой. Требовала выделить ей долю для пересылки якобы чудесно спасенным царским отпрыскам. А мы-то знаем и то, где отпрыски в то время находились, и то, как Полина Касперовна левой рукой писать умеет.
— Так и не поделились, значит?
— Никак нет. Да и, сами знаете, нечем уже было, все ушло по адресу, согласно приказаниям.
Что все ушло по адресу, в этом, пожалуй, можно было не сомневаться — те, кто давал поручение, конечно, проследили за этим и не оставили бы писца в покое. Но вот куда ушло, это еще оставалось неясным.
Михеев с нетерпением ожидал встречи с Битнер-Кобылинской.
Клавдия Михайловна Кобылинская, супруга начальника охраны Романовых, нашлась в небольшом подмосковном городке, где мирно жила и учительствовала, тая от знакомых, да и от себя самой тоже, воспоминания об удивительных событиях, свидетельницей и даже участницей которых ей довелось быть.
Дочь какого-то некрупного чиновника, она, кончив гимназию, учительствовала в Царском Селе, основное население которого составляли служащие императорской резиденции — Александровского дворца, преподаватели знаменитого со времен Пушкина, лицея, слушатели военной академии да многочисленная группа литераторов и художников, привязанных к поэтической памяти этой «гавани муз». В войну, увлеченная общей волной сентиментально-преувеличенной заботы о «защитниках веры, царя и отечества», пошла работать сестрой милосердия в «состоящий под высочайшим покровительством» царскосельский офицерский лазарет.
Конечно, это был лазарет для избранных — пред светлейшие очи титулованной обслуги доставлялся лишь соответствующий контингент пациентов: представители громких аристократических фамилий, офицеры лейб-гвардии, протеже влиятельных лиц из дворцового окружения. Здесь Клавдия Михайловна Битнер имела возможность встречаться с высокопоставленными лицами, от нечего делать иногда игравшими роль «сестричек» и «шефов». В том числе и с августейшими — членами императорской фамилии.
Здесь же она встретилась и с обер-офицером гвардейского полка Евгением Степановичем Кобылинским, залечивавшим после ранения под Старой Гутой острый нефрит. Пребывавшая уже в бальзаковском возрасте одинокая сестра милосердия увлеклась тоже уже немолодым, но подающим весьма большие надежды на солидную карьеру гвардейцем. Вскоре она уехала за ним в Петербург и стала его женой.
Мартовский переворот 1917 года многое нарушил в планах молодой четы, но, как оказалось, принес и свои выгоды. Энергичный полковник был представлен Керенскому и получил солидное назначение — начальником гарнизона Царского Села и комендантом охраны Александровского дворца, где содержалась под арестом царская семья. Это назначение выдвигало его в ряд видных офицеров армии. Но когда было принято решение о переводе Романовых в Тобольск, Кобылинскому пришлось в той же должности начальника их охраны последовать туда. Спустя два-три месяца в Тобольск прибыла и Клавдия Михайловна.
Переход власти в руки большевиков вначале не изменил ничего в положении Кобылинского, он продолжал исполнять свою должность, но перевод Романовых в Екатеринбург оставил его не у дел. Вернувшись из Екатеринбурга в Тобольск, он снял форму и занялся домашним хозяйством, предоставив энергичной супруге зарабатывать на жизнь службой в гимназии. Быстросменявшиеся события заставили его вскоре вновь надеть мундир и нацепить снятые было полковничьи погоны — занявшие Тобольск белые мобилизовали его в армию. В конце 1918 года полковника можно уже было видеть в штабе Сибирской армии Колчака на должности офицера для поручений при начальнике снабжения.
Паническое отступление колчаковцев разлучило супругов: Клавдия Михайловна застряла в Новониколаевске и лишь через несколько месяцев добралась до Тобольска, где жила ее мать, а Евгений Степанович катился все дальше на восток, пока где-то под Красноярском не был взят в плен. Через два года, — все это время Клавдия Михайловна жила в Тобольске, а Евгений Степанович «искупал вину» где-то на Алтае, — супруги соединились вновь. Кобылинский сумел скрыть свое прошлое, прикинуться рядовым простачком офицером и был прощен. Разыскав друг друга, Кобылинские поселились в Рыбинске и, кажется, были довольны жизнью, отдыхая от недавних передряг.
Беда пришла к ним в 1927 году. Евгений Степанович связался с группой бывших офицеров, впутался в какой-то антисоветский заговор и… Клавдия Михайловна стала вдовой. Последовавшие за этим частые переезды, то в Москву, то на захолустную подмосковную станцию Столбовая, то в Орехово-Зуево, уже ничего особенного не привнесли в ее биографию — она оставалась рядовым «шкрабом», как звали тогда школьных работников, то есть учителей.
Из книг Жильяра и Соколова, из воспоминаний Панкратова Михеев знал и некоторые интимные подробности жизни Битнер-Кобылинской в Тобольске. Например, о том, что она была там учительницей царских детей.
Когда Романовы покидали Тобольск, благодарные родители тепло попрощались с учительницей своих детей, Александра Федоровна облобызала ее, а Николай галантно поцеловал ручку.
Вот кто такая была Клавдия Михайловна Битнер-Кобылинская, нашедшаяся через пятнадцать лет после тех событий и ожидавшая сейчас встречи с Михеевым.
Для своих пятидесяти шести лет Клавдия Михайловна выглядела неплохо. Совсем еще свежий цвет лица. Пепельные, возможно, даже без седины пышные волосы, заботливо ухоженные и причесанные. Некоторая склонность к полноте маскировала неизбежные морщинки. Простое, строгое, но сшитое с претензией на изящество, платье говорит о хорошем вкусе. Нрав, очевидно, общительный, живой, пожалуй, даже экспансивный. Как будто, без скидок, симпатичный человек.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
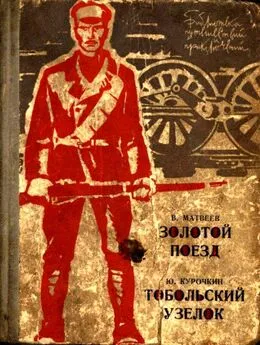

![Сергей Майоров - Слепой Агент [Последний долг, Золотой поезд]](/books/117370/sergej-majorov-slepoj-agent-poslednij-dolg-zolot.webp)