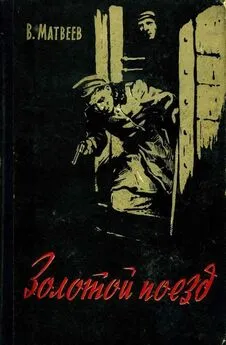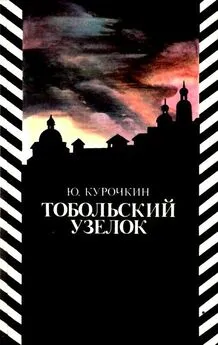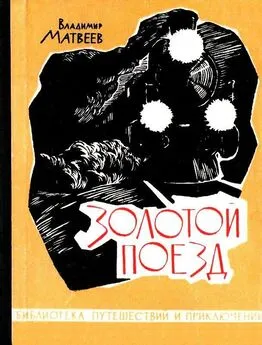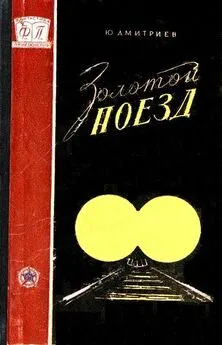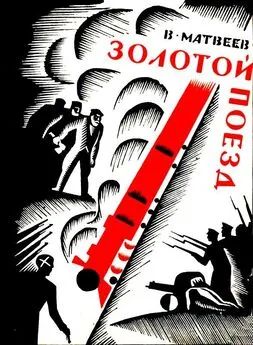Владимир Матвеев - Золотой поезд. Тобольский узелок
- Название:Золотой поезд. Тобольский узелок
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пермское книжное издательство
- Год:1971
- Город:Пермь
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Матвеев - Золотой поезд. Тобольский узелок краткое содержание
Он родился в 1898 году в Перми. В августе 1917 года, будучи студентом, вступил в большевистскую партию. В 1918–1920 годах был на советской, военной, партийной и газетной работе в Перми, Екатеринбурге и других городах Урала. Позже работал в Петрограде — Ленинграде, где и написал повесть «Золотой поезд» (другое название «Комиссар золотого поезда»).
В предисловии к одному из изданий повести писал о своей литературной работе:
«Я занимался журналистикой, военной и партийной работой и никогда не думал писать повести и рассказы.
Но вот однажды в кругу своих друзей я рассказывал о том, как мы боролись на Урале за Советскую власть.
Когда я кончил рассказывать, все молчали. Один товарищ сказал: „Вот ты бы и написал об этом“.
„Не все помнят первые годы Октябрьской революции“, — подумал я и решил написать повесть „Комиссар золотого поезда“ — о революции на Урале…»
В. П. Матвеев умер в 1939 году.
Запутанной и сложной операции уральских чекистов — поиску драгоценностей, запрятанных в Тобольске семьей последнего русского царя, Николая Романова, посвящена повесть Ю. Курочкина «Тобольский узелок». Лишь пятнадцать лет спустя после кропотливых и настойчивых поисков чекистам удалось вернуть драгоценности их истинному хозяину — народу.
Автор этой книги Юрий Михайлович Курочкин — уроженец Пермской области (родился в 1913 году в г. Чусовом). По профессии он журналист, со дня основания журнала «Уральский следопыт» заведует в нем отделом краеведения. В Свердловске, Челябинске и Перми издал семь книг, в том числе в «Библиотеке путешествий и приключений» книгу «Легенда о Золотой Бабе» (Пермь, 1963 г.). Очерки Ю. М. Курочкина печатались во многих журналах и газетах.
Золотой поезд. Тобольский узелок - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем события в эти месяцы 1918 года развивались так. В марте в губернаторском доме был введен новый, усиленный режим, сузивший возможности сношения Романовых и их свиты с «волей». В конце марта прибыла новая охрана, и роль Кобылинского была ограничена до минимума. Рано утром 26 апреля из Тобольска в Екатеринбург отправилась первая партия: Николай с женой и дочерью Марией, с ними Боткин, Долгоруков, Чемодуров, Иван Седнев и Демидова. В ту же ночь Тобольский Совет произвел обыски и аресты окопавшихся в городе монархистов и контрреволюционно настроенных офицеров. Еще через два дня арестован и вывезен из Тобольска епископ Гермоген. В середине мая отправлены в Екатеринбург остальные Романовы, задержавшиеся в Тобольске из-за болезни Алексея, а с ними и остатки свиты и прислуги, в том числе и Кобылинский. В эти же примерно дни в Тобольск тайно приезжает на несколько дней Борис Соловьев. В середине июня Тобольск захвачен белыми. 16 июля расстреляны Романовы и арестовано большинство их свиты. Спустя несколько дней пал Екатеринбург. Кобылинский возвратился в Тобольск, к семье.
Никому из видных лиц свиты в такой суматохе он не мог передать драгоценности, это ясно. А если бы и передал, то они были бы у этих лиц, находившихся все время под строгим присмотром, найдены и об этом стало бы известно. Нет, он мог передать их только лицу малозаметному, но верному, близко знакомому.
Значит — Пуйдокас?
Помог опять-таки Тобольск. Там помнили Пуйдокаса, знали даже его нынешний адрес — сын запрашивал справку из школы, где учился когда-то. Дальнейшее уже было «делом техники».
Лесопромышленник Константин Иванович Пуйдокас был в свое время солидной фигурой в тобольском деловом мире — вел крупные экспортные операции, ворочал изрядными капиталами. И в то же время был как-то на отшибе: поляк, католик, сугубо деловой человек, энергичный, решительный и резкий, он не «притерся» к обществу тобольского купечества, явно пренебрегая им.
Пребывая постоянно в длительных деловых вояжах, а в редкие перерывы между ними — на дальних своих лесных заимках (предпочитая мирное семейное одиночество пьяному времяпрепровождению сиволапых сибирских купцов), он и личностью своею не очень запомнился тоболякам. Хотя внешностью был незауряден: высок и плотен, розовощек, в пышных холеных усах, голосом зычен и резок, одевался не без щегольства. На одной руке не было пальца, что и послужило причиной клички «беспалый барин», присвоенной ему купцами, недолюбливавшими своего коллегу по коммерции.
В 1919 году Константин Иванович почел за лучшее выехать из Тобольска вслед за отступавшими колчаковцами.
Зацепился за Омск, где жил его брат. Но дальше не двинулся — понял, что песенка «спасителей отечества» кончена, и решил остаться в Омске, пока не прояснятся обстоятельства.
Вскоре они прояснились; настала пора нэпа — и Пуйдокас потихоньку начал выглядывать на свет божий, чтобы присмотреться и сориентироваться в обстановке. Попробовал принять участие в некоторых деловых операциях — прошло удачно. Догадался, что можно выходить на арену пошире, и в 1926 году надумал вернуться в родные края, к знакомому с детства делу, к своим брошенным предприятиям.
Жизнь вроде бы наладилась, вошла в колею, но в 1929 году, ознакомившись с материалами о пятилетке, о коллективизации, уяснив смысл спора партии с уклонистами, дальновидно решил сматывать удочки — «рыбалка» кончалась. Вернулся в Омск, но ненадолго, только лишь чтоб заручиться необходимыми рекомендациями старых знакомых. А затем двинулся вверх по Иртышу и, отойдя километров на триста, пересел на попутную подводу, которая и довезла его до какого-то далекого таежно-степного алтайского поселочка.
Глухомань показалась ему достаточно удобной и надежной, и он устроился здесь «по мелкому счетному делу», выписал жену с детьми и исправно исполнял роль мелкого совслужащего, не подавая никому о себе вестей.
Там его и нашли, ибо кое-какие вести все же, помимо его желания, в Омске и Тобольске появлялись.
Скромный образ жизни Константина Ивановича на новом месте жительства вселил в Михеева сомнение — не похоже, чтоб он чем-нибудь помог делу. Драгоценности, если и были в его руках, он, делец по призванию, сумел бы обратить в удобные для оборота средства и вложить в свои нэповские предприятия.
В Свердловск его доставить пришлось вместе с женой, Анелей Викентьевной — ее имя тоже фигурировало в показаниях, которые успели дать за это время Гусева, Никодимова и Преданс (Кобылинская по-прежнему отказывалась признать свое знакомство с Пуйдокасами). Но доставили супругов порознь. Сначала его, а потом, день спустя, — ее. Так что Константин Иванович вначале и не знал, что находится бок о бок с женой.
С нее и начал Михеев разговоры по новому направлению поиска.
Анеля Викентьевна, тихая, богобоязненная дама, обожающая своего все еще интересного, но строгого и резковатого мужа, чувствуя, что Константину Ивановичу могут грозить какие-то неприятности в связи с этим старым делом, вначале пыталась отделаться незнанием. Но, не обладая хитрым умом, врать не умела и легко запутывалась. И уж совсем растерялась на очных ставках со старыми знакомыми, с которыми, как она думала, ей в жизни встретиться больше не придется.
— Знаете ли вы эту женщину? — обратился к ней Михеев, представляя Никодимову.
— Нет, не знаю, — пугливо ответила Пуйдокас, отводя глаза.
— Что вы, Анеля Викентьевна, неужели я так изменилась? — воскликнула горестно Никодимова.
— Так как же все-таки, знали или нет? — повторил вопрос Михеев.
— Может быть, встречались… Где же упомнить. Столько времени прошло…
— Сколько?
— Да с восемнадцатого-то года.
Никодимова и Михеев улыбнулись. Нет, не умела врать Анеля Викентьевна — не получалось у нее.
— А скажите, знавали ли вы в этом самом восемнадцатом году полковника Кобылинского?
— Нет, конечно, не знала. Мы жили тихо, мирно, никуда не ходили, ни с кем не встречались.
— Так вот, Анеля Викентьевна, давняя ваша знакомая, Викторина Владимировна, утверждает, что по рекомендации полковника Кобылинского передала вам и вашему мужу два мешочка с драгоценностями: своими и графини Гендриковой.
— Нет, не передавала, — упрямо твердила Пуйдокас.
— Может, вы забыли, Анеля Викентьевна? — удивленно глядя на нее, спрашивала Никодимова. — Белые такие мешочки из бельевого полотна. На них были надписаны наши фамилии — моя и Anastasie. Вы при мне положили их в свой секретер. Как же можно забывать, ведь это, простите, не носовой платок.
— Ну, если брали, то, значит, возвратили.
— Кому?! — изумилась Никодимова.
— Евгению Степановичу, конечно.
— Мои вещи?! Зачем?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
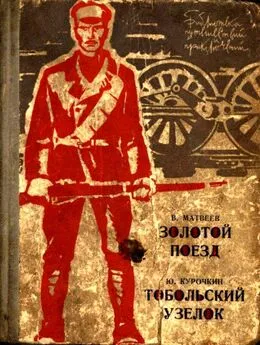

![Сергей Майоров - Слепой Агент [Последний долг, Золотой поезд]](/books/117370/sergej-majorov-slepoj-agent-poslednij-dolg-zolot.webp)