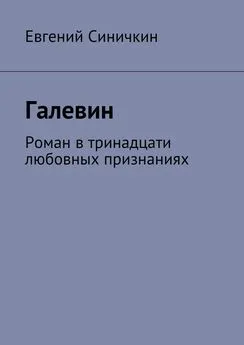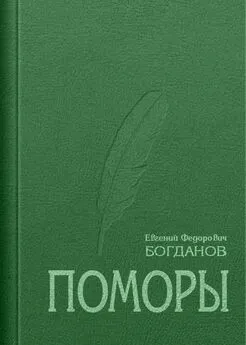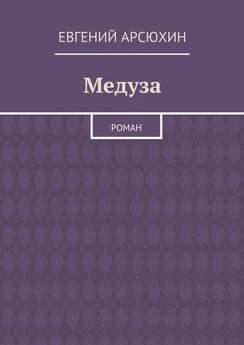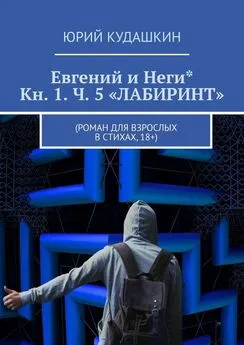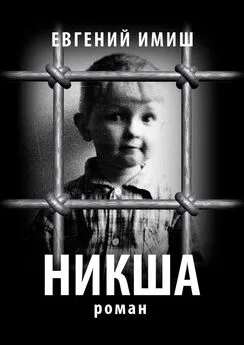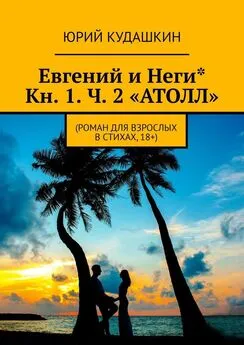Евгений Синичкин - Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях
- Название:Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449094483
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Синичкин - Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях краткое содержание
Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В поисках заступника, верного до могилы, я бросился в велеречивые объятия классической литературы. Я познакомился с этой старой, но неувядающей девой в возрасте десяти лет. Наша встреча не отличалась захватывающими подробностями. Безоблачное июньское небо, как заядлый вуайерист, светило бесстыдной наготой, большой дуб, отбрасывавший тень на участок, брюзжал по-стариковски, хаотичными хлопками рукавичных листьев жалуясь небесам, прекратившим дотационные чичеры, на нищенскую в осадочном эквиваленте пенсию, а я, борясь со скукой, шарил по дачным шкафам. В нижнем ящике облезшего комода, поначалу не желавшем поддаваться, ютилась горстка неновых книг. Моё внимание привлекла бежево-жёлтая обложка, на которой был изображён со спины некий паренек в повернутой козырьком назад красной бейсболке, стоявший под каплями дождя. «Над пропастью во ржи» заняла в моей жизни такое же место, какое занимает Библия у ревностных христиан: я держал её в прикроватной тумбочке, читал и перечитывал, делал пометки тонким, будто нановискерным, грифелем карандаша, искал в ней ответы и помощь. Холден стал для меня реальным человеком – близким другом и названным братом, с которым я никогда не был одинок. Я встретил родственную душу, юного байронического странника, гонимого двуличным и неотёсанным миром взрослых. Как Вергилий, этот мудрый дантовский психопомп, Холден вёл меня по адским тропам вражды и разочарований, не оставляя ни на минуту. Обретя утешение в едкой сатире Рабле и де Костера, в масштабности книг Гюго и Сенкевича, в болезненной чувственности Манна и Верлена, в стилистической пышности Толстого и Пруста, в поразительной глубине образов у Бальзака и Гамсуна, в неиссякаемой доброте Гаршина и Короленко, в музыкально-прозаической концентрированности творений Джойса и Маркеса, в интеллектуальной силе Фаулза и Бродского, я начал отдаляться от мира, от людей, от природы, возводя изощрённые преграды в неприступной башне из слоновой кости, в которую добровольно, отвергая наставления Гессе, себя заточил. Я читал бессистемно, как начётчик; набрасывался на книги, как Кощей на злато; я поглощал художественные миры, как огромная чёрная дыра. Книги служили мне маяком, который направлял по жизни, и спасательным кругом, не позволявшим сгинуть в пучине повседневных избиений и издевательств. Я кидался во вселенную книг, словно в омут, тонул в невыразимом великолепии и всплывал навстречу звёздам. Набоков советовал читать не торопясь, потягивая литературу, будто дорогое вино, но его слова казались мне дикими, потребительскими и невыполнимыми. Словно наркоман в ломке, дорвавшийся до дозы, такой желанной и близкой, обещавшей неземные удовольствия, я не мог остановиться.
– Какого чёрта ты всё сидишь за своими книжками! – бесилась мама. – Пустая трата времени. Лучше бы нашёл себе друзей. Ты больной: тебе бумажки дороже людей.
Я не знал, как объяснить ей, что у меня сотни друзей, и таких, каких мне ни за что не сыскать в школе или во дворе, что в час любви, объятий, снов мне сладостно придаваться чтению книг великих мудрецов. Она считала жизнью посиделки с подружками под аккомпанемент однооктавных завываний очередного плохого шансонье, закалифшегося на пару концертов, и громкого плеска бесцветного вермута. Я бежал этого существования, звучавшего в моих ушах гимном пошлости и мещанства. Я желал удрать от прозы жизни, сделаться анахоретом, как Сэлинджер или Пинчон, чтобы создавать поэзию искусства. Я исписывал тетрадки и учебники, газеты и туалетную бумагу, выл и рыдал из-за несовершенства формулировок, примитивности мыслей, плоскости образов, беспомощности сюжетных линий. Я уверился в собственной бездарности и безнадёжности. Я не сомневался, что не смогу, как бы ни изводил себя пустыми чаяниями, сотворить подлинную красоту. Я представлял себя многоликим Янусом от литературы: во мне уживались молодой писатель без стиля и молодой писатель без идей, прозаик, жадный до поэтических красот, и прозаический поэт. Тем не менее, как Чарский, я только тогда и знал истинное счастье, когда, терзаемый сомнениями и возбуждённый вдохновением, запирался в своей комнате и писал с утра до поздней ночи, а затем и всю ночь до утра, после чего, бледный, разгорячённый, словно больной гриппом, ослабший, выжатый, без чувств падал на кровать и забывался целительным сном без сновидений.
Чем старше я становился, тем явственнее тяготила меня потребность в женском внимании. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. С завистью я взирал на уверенных в себе одноклассников, властно обнимавших точёные девичьи плечи, уверенно продвигавшихся рукой к упругим грудям, притягательными бугорками выдававшимися из-под белоснежной блузки с накрахмаленным воротничком, подчёркивавшим изысканную тонкость лебединой шеи; целующиеся парочки, страстно обнимавшиеся, опираясь на загаженный подоконник, заставляли меня всякий раз во время движения по школьным коридорам упирать в расчерченный подошвами линолеум стыдливый взгляд пунцового лица; коротенькие юбчонки, почти не прикрывавшие аппетитные ягодицы, и разноцветные чулочки в горизонтальную полоску, тянувшиеся выше колен, обособляя волнительную стройность прямых ножек, деспотически завладевали моим воображением. Мне не верилось, что обворожительная девушка может влюбиться в такого неудачника и изгоя, как я. Опасаясь попасть в неловкую ситуацию, показаться смешным, я боялся приглашать девушек на свидания, ожидая язвительного отказа. Я фантазировал, что на меня обратила внимание дева серафической красоты и херувимской доброты; мы сидим в затемнённом помещении, напряжённую тишину которого нарушает лишь наше взволнованное дыхание; с нежность я смотрю в её глаза, блестящие, как Млечный Путь, сотнями миллиардов звёзд; мы целуемся с тем святым и сладким жаром, свободным от всяких дурных помыслов, каким бывает отмечен только один поцелуй, первый поцелуй, – тот, которым две души приобретают власть одна над другой; время и пространство перестают существовать – в вечности остаётся только нерушимый союз наших забывающих робость губ. Я искал болезненной страсти, сумасшествия чувств и жестокой борьбы, видя, как подобает типичному романтику, неразрывную связь Эроса и Танатоса. Я ощущал себя благородным Радамесом, похороненным вместе с ненаглядной Аидой, бравым Андре Шенье, идущим к гильотине рука об руку с верной Мадлен, находящимися в бесконечном поиске себя Тангейзером и Зигфридом, умирающими с именем возлюбленных на устах, несчастным Тристаном, погибающим рядом с Изольдой, отверженным Лоэнгрином, преданным женским недоверием, бедным Вертером, которому так и не удалось насладиться блаженством взаимной любви. Потеряв со временем ощущение реальности, которая была для меня всего-навсего одним из множества параллельных художественных миров, тесно связанных между собой, я, как мужская реинкарнация пушкинской Татьяны, ждал идеал – вычитанную в романах и сыгранную лирической колоратурой принцессу; я не понимал элементарной истины, другими людьми принятой интуитивно: идеал – это путеводная звезда, указывающая тебе путь, но никогда не спускающаяся с небосклона, чтобы составить компанию за дружественной беседой. Идеальным может быть лишь образ – не человек. К сожалению, я не знал, что если тебе посчастливилось повстречать долгожданную принцессу, с ангельской кротостью восседающую на белой кобыле, то незамедлительно стоит задуматься: не она ли тот всадник на бледном коне, за которым следует ад?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: