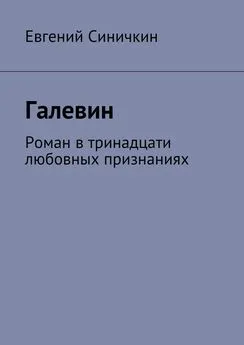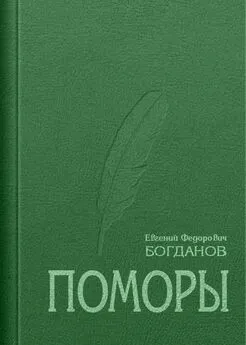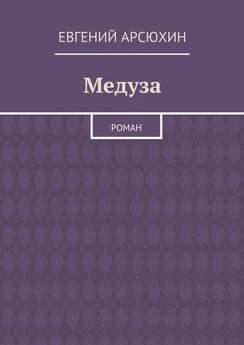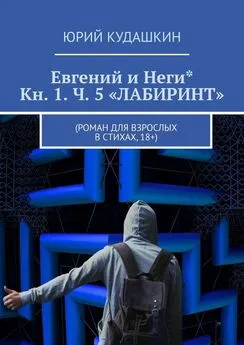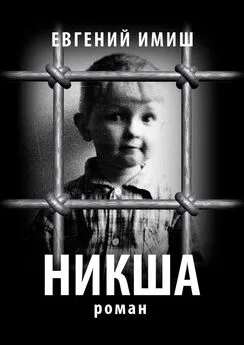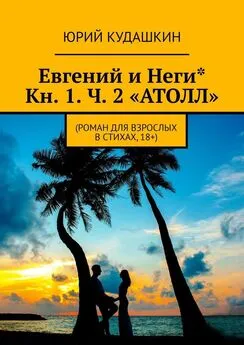Евгений Синичкин - Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях
- Название:Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449094483
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Синичкин - Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях краткое содержание
Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чувства того, кто предаётся созерцанию одиноко и молчаливо, расплывчатее и в то же время глубже, чем если бы он находился на людях, его мысли весомее, прихотливее, и на них неизменно лежит налёт печали. Картина мира, ощущения, которые легко можно было бы потушить единым взглядом, смешком, обменом мнений, его занимают больше, чем следует; в молчании они углубляются, становятся значительным событием, авантюрой чувств, неизгладимым впечатлением. Одиночество порождает оригинальное, смелое, пугающе прекрасное – поэзию. Но оно порождает и несуразицу, непозволительный абсурд.
Моё восприятие людей и жизни можно было, пользуясь психиатрической терминологией, назвать амбивалентным. Огрызаясь про себя в сторону человеческого общества, годами подвергавшего меня обструкции, я с замиранием сердца восхищался возможностями человеческого гения, сотворившего из безжизненной пустоты тривиальности «Волшебную гору» и «Страсти по Матфею». Меня разочаровала жизнь в целом, жизнь вообще, жизнь в её посредственном, неинтересном, тусклом течении, разочаровала, разочаровала; и всё же слово, одно лишь слово, самое обычное, но единственное и незаменимое, высеченное в числе прочих на пожухнувшей странице книги, приводило меня в состояние экстатического трепета. С годами моя страсть к литературе не только не ослабела, но и стала многократно сильнее. Читал я много, читал всё, что попадалось под руку, и быстро настраивался на нужную волну. Каждую поэтическую личность я понимал и чувствовал; я полагал, что узнаю в ней себя, и воспринимал всё в стиле той или иной книги до тех пор, пока своего воздействия не начинала оказывать следующая. Я жил искусством, ради искусства и в мире искусства. В куске камня, на который прилегла белокожая красавица из «Сна, вызванного полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения», для меня теплилось больше жизни, чем я мог разглядеть в чертах всех знакомых людей, вместе взятых. Мой ум свыкся с одиночеством, а свет презирал я всей душой.
Через какое-то время в школе к моим чудачествам привыкли. За мной закрепилась слава деревенского дурачка, паренька не от мира сего, юродивого, который, когда к нему обращаются, смотрит не на человека, а, будто не замечая, сквозь него, и меня оставили в покое. Я был удивлён столь резкой перемене курса, чудесным образом перенёсшей корабль моего существования, уже гибнувший в пучине, в тихую бухточку, где повелевал ленивый штиль, однако почитал правильным не подвергать дарёного коня придирчивому медицинскому осмотру.
Всё время, которое оставалось у меня от учёбы и чтения, я посвящал жалким попыткам творчества. Нет, ничего, кроме работы для меня не существовало, ведь как человек я ни во что себя не ставил и значение своё усматривал лишь в творчестве; в жизни же бродил серый и невзрачный, точно актёр, только что смывший грим, – ничтожество вне театральных подмостков. Я слышал в себе потребность создавать, переводя реакции нейронов в самые восхитительные слова и образы, которые видел свет. Я грезил не о славе, лавиной признания обрушивающейся на одарённого писателя, а жаждал удостовериться, что могу, могу, могу быть не мальчиком для битья, пустым местом, неприкаянным крысёнышем, но демиургом, властителем мощным собственного мира. И я не мог. Я изрывал тетради, ломал ручки и сгрызал карандаши, но ничто из этого не могло наделить меня хотя бы крупицей таланта. Рассказы, выходившие из-под моего пера, были мертворождёнными детьми: безжизненными манекенами, пошлыми потугами эпигонства, искренними, но неодушевлёнными признаниями в любви многим кумирам. Я писал сотни слов каждый день, и ни в одной букве не было меня. Я заплутал в дебрях подражательства, потерялся, негодовал на слабость, не находя сил что-либо изменить. Литература стала для меня не призванием, а проклятием. Я рано, очень рано почувствовал на своих плечах её покровительственную руку: в пору, когда ещё нетрудно жить в согласии с богом и человеком, я видел на себе клеймо, ощущал загадочную несхожесть с другими – обычными, положительными людьми, пропасть, зияющую между мной и окружающими, пропасть иронии, неверия, протеста, познания, бесчувствия. Я был одинок настолько, что не мог прийти ни в какое согласие с людьми, а дорогу к поэтической красоте, способной составить моё счастье, преграждал отряд подготовленных солдат, живших приказом не пропускать меня к святым чертогам.
Чтобы заглушить боль, притупив мучительное осознание своей творческой оскоплённости, я приобщился к горьким радостям крепкого алкоголя. Если Фолкнер и Хемингуэй черпали в нём трезвое вдохновение, используя как золотой ключик, освобождавший гениальность ото всех цепей, то я находил в нём путеводитель по песчаным пляжам медленной Леты. Обжигающий вкус прохладной водки, которую я без зазрения совести воровал из материного серванта, нежный после пары-тройки рюмок, давал покой, беззаботность, головокружительную туманность осоловелого взора и крепкий сон без сожалений и кошмаров. Не могу постигнуть, отчего меня не исключили из школы? Не вынесли, на худой конец, ни одного предупреждения, не вызвали к директору мать? Возможно ли было не заметить забористый запах перегара и пьяную походку пятнадцатилетнего ученика? Как бы то ни было, запойное чтение и запойный алкоголизм – вполне обычный набор для личности увлекающейся и немного творческой – стали добрыми спутниками моего счастливого отрочества.
Тем временем пришла долгожданная пора выпускных экзаменов. Наконец-то! Свобода, волшебная свобода! Так близко! Все обиды и страдания останутся позади! Начнётся новая жизнь, переизданная, претерпевшая исправления и дополнения! Аттестат зрелости маячил перед носом радужной упругостью финишной ленточки. Как изнемогающий от усталости и жажды марафонец, которому последние десять метров дистанции кажутся вечностью, я стремился только к скорейшему окончанию забега. И чуть было не напоролся на услужливо подставленную ногу очередного благодетеля.
Последней в череде экзаменов числилась литература. Несмотря на принципиальное нежелание с пораженным лицом Архимеда, произносящего свою легендарную «Эврику», оглашать избитые и кодифицированные в рамках школьной программы трактовки, за что меня недолюбливали преподаватели, никаких серьёзных проблем я не ожидал.
Класс в полном составе толпился в узком коридоре второго этажа. На запылённых окнах, испещренных чёрными точками и сальными отпечатками грязных пальцев, жужжали мухи. По стенам шныряли взволнованные солнечные блики. С утопающей в разноцветном мареве улицы, такой бархатно-тёплой, что настоящим преступлением было покидать её, лился сквозь щели в оконных рамах, вздёргивая шторы, как юбочки, нагретый воздух с ароматом сирени. Из-за оглушительного многоголосья взволнованных голосов, бубнивших экзаменационные билеты, с трудом удавалось расслышать собственные мысли. Я стоял в стороне, в углу, как всегда любил, чтобы держать всех в поле зрения и чувствовать себя в безопасности; костяшки пальцев вытанцовывали фокстрот на поверхности бежевого дверного косяка. Меня нервировала царившая перед дверьми кабинета суета; выпученные белки бегающих глаз, изрисованные алыми ветками капилляров, вызывали лёгкие панические атаки и навязчивое желание отвернуться. Почему они не могут достать книгу и с наслаждением почитать? Зачем трясутся из-за оценок, которые им безразличны? Боятся не оправдать ожиданий, боятся не соответствовать чьим-то личных стандартам, до которых им, если задумаются на секунду, не будет никакого дела? Они не испугались зарезать Томаса, но впадают в ужас при мысли не выдержать экзамена? Мелко! Мелко и подло! Коридор пропитался терпким запахом беспокойства и пота. Я находился в трёх метрах от остальных учеников, но разделяли нас бескрайние просторы. Даже в минуты общей тяготы я не знал, как сойтись с ними, как объединить усилия, побрататься и забыть былое. Да и хотел ли я? Глядя на их раскрасневшиеся щёки, я спрашивал себя: «Почему я какой-то отщепенец, не такой, как все, почему учителя ко мне придираются, а сам я сторонюсь товарищей? Ведь это хорошие, благонравные ученики – то, что называется „золотая середина“. Учителя не кажутся им смешными, они не пишут стихов и думают о том, о чём положено думать и что можно высказать вслух. Какими порядочными, со всеми согласными они ощущают себя, и как это, наверно, им приятно… Кто же я такой, и что со мной будет дальше?». И затем сильнее вжимался в угол, намертво скрещивая руки на груди.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: