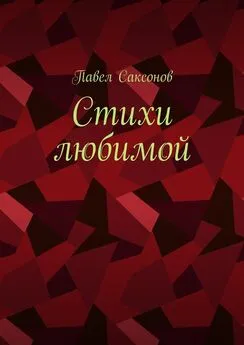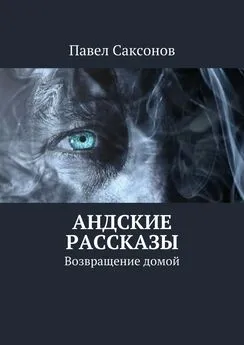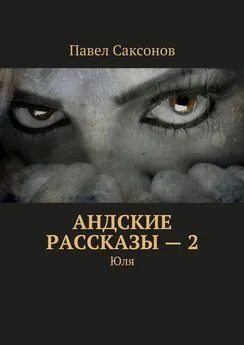Павел Саксонов - Можайский — 3: Саевич и другие
- Название:Можайский — 3: Саевич и другие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Саксонов - Можайский — 3: Саевич и другие краткое содержание
В 1901 году Петербург горел одну тысячу двадцать один раз. 124 пожара произошли от невыясненных причин. 32 из них своими совсем уж необычными странностями привлекли внимание известного столичного репортера, Никиты Аристарховича Сушкина, и его приятеля — участкового пристава Васильевской полицейской части Юрия Михайловича Можайского. Но способно ли предпринятое ими расследование разложить по полочкам абсолютно всё? Да и что это за расследование такое, в ходе которого не истина приближается, а только множатся мелкие и не очень факты, происходят нелепые и не очень события, и всё загромождается так, что возникает полное впечатление хаоса?
Рассказывает фотограф Григорий Александрович Саевич.
Можайский — 3: Саевич и другие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
143
143 Общеупотребительным этот термин в отношении определенного течения в искусстве стал существенно позже. Саевич предвосхитил его использование.
144
144 Современного правила иметь на руках перчатки при всех медицинских и анатомических манипуляциях во время описываемых событий не существовало. Несмотря на то, что болезнетворное воздействие бактерий было уже хорошо известно, отсутствие подходящих материалов, а также техник стерилизации сдерживали прогресс. Долгое время врачи, анатомы, ассистенты пользовались раствором хлорной извести, который, давая определенную гарантию при хирургических вмешательствах (неинфецирование раны пациента), должную защиту при вскрытиях не обеспечивал.
145
145 Разумеется, Акулина Олимпиевна не имеет в виду прозекторскую работу в обычных уличных перчатках: так никто не работал — перчаток было бы не напастись. Акулина Олимпиевна всего лишь говорит о перемещениях тела.
146
146 «И года не прошло, как вы поняли!»
147
147 «Я надеялся, что это не так…»
148
148 Прозвище Дарьи Николаевны Салтыковой (1730–1801), ставшее нарицательным в обозначении помещичьего произвола. Дарья Николаевна обвинялась в истязаниях и убийствах принадлежавших ей крепостных. Проведенным следствием было достоверно установлено убийство ею тридцати восьми человек, однако сами крепостные на допросах утверждали, что убиты были семьдесят пять человек. Вообще же неясной была судьба без малого полутора сотен. Осенью 1768 года Салтыкова была осуждена и — личным указом императрицы Екатерины Второй — приговорена к пожизненному заключению в монастырской тюрьме «без света и человеческого общения». Наказание было исполнено со всей суровостью: на территории Ивановского женского монастыря (Москва) была вырыта яма глубиной около двух метров, в которой Салтыкова провела около одиннадцати лет. Только через одиннадцать лет режим заключения был смягчен: уже совершенно безумную бывшую помещицу перевели в небольшую каморку с окошком, где она провела еще двадцать два года. Это наказание стало своего рода показательным примером для всех, кто, имея в собственности людей, совсем уж переходил черту в осуществлении своих прав, из владельца законного превращаясь в беззаконного монстра. Никита Аристархович, говоря Ивану Пантелеймоновичу, что нет уже Салтычих, имел в виду невозможность безнаказанного обращения с крепостными как с бессловесной скотиной. Впрочем, Никита Аристархович заблуждался: салтычих, пусть и не настолько «масштабных», как Дарья Николаевна, в России хватало вплоть до отмены крепостного права в 1861 году.
149
149 Бахвальство Никиты Аристарховича имело под собой основу, но, конечно, здесь он просто пошутил.
150
150 Никита Аристархович однажды уже использовал это имя — возницы Марса — для ироничного названия кучера князя Можайского.
151
151 «Каждый есть не более чем человек» — (в смысле «тварь Божия») — «создание (Бога) то бишь»…
152
152 Юрий Михайлович цитирует «Марсельезу»: «Дрожите, тираны и предатели…» В русском переводе весьма двусмысленное (или, напротив, достаточно ясное указание на возможное предательство со всех сторон ) обычно заменяется нейтральным «прислужники тиранов» и тому подобным. Почему так — загадка.
153
153 Гальтон, Форжо, Лакассань… Михаил Фролович перечисляет пионеров научной (криминалистической в строго смысле этого слова) дактилоскопии. Благодаря работе сэра Фрэнсиса Гальтона, Великобритания стала одним из первых в мире государств, где дактилоскопия как средство идентификации личности сменила бертильонаж.
154
154 Аргентина стала первой в мире страной, где в ходе судебного следствия были использованы отпечатки пальцев в качестве решающего доказательства вины подсудимого. Впрочем, вряд ли, конечно, вопрос отправки «исследовательской группы» в Аргентину мог стоять всерьез: скорее всего, Михаил Фролович просто мрачно пошутил. Тем не менее, группа действительно была создана, но отправлена в Германию. Однако введение дактилоскопии вместо (а часто — совместно) бертильонажа произошло в России только спустя несколько лет после описываемых событий: в самом конце 1906 года.
155
155 Михаил Фролович коряво выражает вот какое сомнение: какое именно ведомство или какая именно организация в рамках Министерства внутренних дел станет ответственной за внедрение дактилоскопии «в жизнь» и — как следствие — создание дактилоскопических кабинетов? В конечном итоге эта роль вообще выпала на долю не МВД, а Министерства юстиции, а точнее — выведенного из состава МВД и включенного в Министерство юстиции Главного тюремного управления. Именно его чиновники ездили «перенимать опыт», именно при нем было создано Центральное дактилоскопическое бюро. Именно министр Юстиции Щегловитов (Иван Григорьевич, 1861–1918; министр в 1906–1915 годах) стал автором первой российской ведомственной инструкции по дактилоскопированию.
156
156 Михаил Фролович ошибся. Как это ни удивительно, но сыск реформа системы идентификации поначалу не затронула вообще. Согласно изданным Министерством юстиции «Правилам о производстве и регистрации дактилоскопических снимков», обязательному снятию отпечатков пальцев подлежали только обвинявшиеся а) в преступлениях, связанных с лишением прав; б) в бродяжничестве. Кроме этих лиц, отпечатки снимали только у осужденных на каторжные работы или поселение. И хотя, несомненно, введение дактилоскопии стало серьезным шагом вперед, но узость ее применения обусловила те затруднения, с которыми продолжали сталкиваться полицейские, а не судебные, следователи.
157
157 Этим обстоятельством примерно тогда же (в 1902 году) воспользовался Альфонс Бертильон, получивший первые в мире четкие фотоснимки отпечатков пальцев, оставленных на стекле. Сделанные им фотографии помогли раскрыть громкое убийство в Париже.
158
158 Никита Аристархович излагает увиденное им довольно сумбурно, отчего поверить в прочитанное сложно. Однако разработанные позже стандарты снятия отпечатков пальцев (европейские, американские, российские) действительно учли возможность «разночтений», введя в обязательную практику рассмотрение отпечатков строго под определенным углом. Правда, на практике вероятность «разночтений» по-прежнему считается относительно невысокой и не всегда принимается во внимание даже в судебном следствии. Тем не менее, известны случаи судебных ошибок, причиной которых стало неверное восприятие отпечатков, причем особенно тех, на которых имелись «ясные» особые приметы — шрамы и тому подобное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: