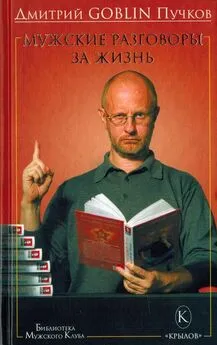Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
- Название:Календарь. Разговоры о главном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-070384-5, 978-5-271-31273-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном краткое содержание
Дмитрий Быков — прозаик, поэт, известный публицист, считает, что вместе с XX веком закончилось тысячелетие разговоров и осмыслений «проклятых вопросов», а все достижения, катастрофы и противостояния предшествующих веков сделались историей — скорее мертвой, чем живой. И тем не менее люди не устают говорить и спорить о Петре и Павле, декабристах и «катастрофе 1917 года», о Сталине и либерализме, Достоевском и «достоевщине», Законе и Благодати… Все это — ЛИЧНОЕ ПРОШЛОЕ, от которого никуда не деться.
В своей новой книге «КАЛЕНДАРЬ» Дмитрий Быков выбрал «датскую форму», чтобы вспомнить имена и события, которые останутся с нами навсегда, даже если сегодняшний школьник не сразу поймет, о чем идет речь.
Календарь. Разговоры о главном - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Есть приглашение к общественному обсуждению разнообразных сценариев российского будущего; Андрей Пионтковский в обычном для него нетерпимом тоне, мешающем прислушаться к разумной сути, уже заметил, что такой разговор бесполезен без анализа настоящего, но спасибо уже и за то, что спор о будущем перестал быть монополией мозгового (точней, нервного) центра, контролируемого околокремля. Отныне обсуждение ситуации и перспектив есть дело всех наличных граждан, а не авгуров, — спасибо и на этом революционном сдвиге. Есть резонные, хоть и косметические по сути предложения — отказ от МВД, превращение внутренних войск в национальную гвардию, снижение (а при недостатке конкуренции — полная отмена) избирательного барьера и т. д. Есть, наконец, утопическая картина будущего — не особенно вдохновляющая, в рамках девяностнического эвфемизма «достойная жизнь», который использовался для обозначения размытой альтернативы тоталитаризму. В понятие «достойной жизни» входил необходимый минимум политических свобод плюс ежемесячный доход в диапазоне от 1000 до 3000 долларов на душу населения. В докладе заметна некая биномность, тандемность, фирменная двуглавость, позволяющая соблюсти и приобрести, — одновременная ориентация на стремительно растущий Китай и ЕС, на сильную президентскую власть и сильный парламент, — но и это все не принципиально, ведь задача, на мой взгляд, была не столько содержательная, сколько институциональная. Лексика в России определяет многое — рано или поздно слова превращаются в дела, поэтому отечественная история есть, в сущности, история паролей. Например, ранние нулевые — это «общественный договор», поздние — «суверенная демократия», «поднятие с колен» и «мобилизация вместо модернизации» (прочую лексику, вплоть до откровенно падонкафскай, я отследил тогда же в эссе «Хропопут»). Лексические вбросы ИНСОРа довольно скромны, но я бы отметил словосочетание «мерцающая пассионарность», которым охарактеризовано нынешнее состояние Отечества. Это типичный пароль-сигнал, удовлетворяющий обоим главным требованиям: это и расплывчато, и точно, как в лучших образцах БГ (вот кого позвать бы составлять новый русский политический словарь! Впрочем, кажется, уже и пытались.) «Мерцающая пассионарность» — адекватное определение того болотного свечения, которое сейчас бледной полосой стоит над русской равниной, обозначая остатки духовности и постоянную готовность загореться, но быстрогаснущим, гнилушечным пламенем. То есть что-то еще теплится, но мертвенно, типа растоптанного Данко.
Теперь пара слов о том, чего там все-таки нет: нет именно анализа текущей конфигурации, но не в смысле критики кровавого режима, не в смысле обязательного посула замены Путина на Ходорковского и наоборот, а в смысле хоть робкой попытки анализа того общественного устройства, которое в России неизбежно воспроизводится. Оно описано во множестве текстов — от «Истории одного города», этого прообраза «Ста лет одиночества», до «Улитки на склоне», этого прообраза всей деревенской прозы семидесятых. Болото есть болото, и для специфической фауны оно служит оптимальной средой; оно живописно, в нем прекрасно сохраняются трупы, оно преодолевает и снимает традиционные бинарные оппозиции, поскольку не является ни водой, ни сушей, ни свободой, ни диктатурой; болото засасывает, но не сразу, мерцает, но не ярко, а главное — суша выветривается, река пересыхает, а болоту ничего не делается. Оно может существовать практически вечно, если радикально не изменится ландшафт. Болото несколько меняется в зависимости от четырех времен года — зимой замерзает, летом горит, весной и осенью пузырится и воняет, — некоторым даже нравится его романтический гниловатый запах; но все эти изменения происходят на поверхности, а в глубине все то же. Образуется болото там, где есть вода, но нет движения, то есть мобильности. Получается это от разных причин: рельеф таков, деревья не забирают воду из почвы, водоем потерял выход и буйно зарос; это уж дело историков и геополитиков — разбираться, почему так вышло. Обмен веществ (в частности, между верхом и низом) в болоте снижен, зато на горизонтальном уровне весьма интенсивен. Слово «болото» имеет в мировой литературе негативные коннотации, поскольку болота вроде как опасны для жизни, но это ведь они опасны для того, кто там не живет. А болотная черепаха или, допустим, кукушкин лен там прекрасно себя чувствуют. На болоте образуется торф, который пришлецу полезен и даже желанен, — его можно забрать на какую-нибудь твердую плодородную почву, и там он послужит удобрением либо топливом; процесс утечки торфа (он же мозгов) огорчает, конечно, жителей болота, но с другой стороны — если хотят, пусть едут. Нас и здесь неплохо кормят. Ругать болото среди его жителей считается хорошим тоном, но перед чужаком каждый кулик свое болото хвалит, что и сформулировано с исчерпывающей полнотой главным национальным святым: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство». Только Россия так способна сочетать свободу и диктатуру, как сочетает болото воду и сушу; другой национальный святой заметил, что крайнюю степень угнетения можно вывести из крайней свободы, и этим самым не столько предсказал советскую диктатуру на почве революционного раскрепощения (как писалось в перестройку), сколько описал замеченный уже Карамзиным парадокс: неаккуратность исполнения русских законов хоть отчасти компенсирует их чрезмерную, драконовскую суровость, полную бесчеловечность. Так ведь закон для того и делается таким, чтобы можно было его не соблюдать; диктатура для того и учреждается, чтобы в ней нельзя было не пробуравить щели. Русское общественное устройство таково, что любая попытка поступательного развития немедленно приходит в противоречие с государственным устройством (читай, с экосистемой болота) и приводит к социальному взрыву, в результате которого в упрощенном виде устанавливается статус-кво.
Задача дня, таким образом, заключается в том, чтобы: 1. Признать состояние болота нормальным или во всяком случае устойчивым, снять негативный налет с этого слова и начать изучать устройство болота так же, как изучаем мы пустыню, суходол или, допустим, чернозем. 2. Определиться с конечной целью грядущих преобразований: либо мы хотим осушить болото — будучи при этом готовы к тому, что большая часть его флоры, фауны и национального своеобразия будет при этом утрачена, — либо нам желательна всего лишь оптимизация жизни в упомянутом болоте, чтобы одна половина его фауны не слишком быстро уничтожала другую, а торф продолжал образовываться прежними темпами. Заметим в скобках: Юргенс, Гонтмахер и соавторы глубоко правы в том, что государственное устройство нынешней России немыслимо без самовозобновляющегося ресурса — сегодня это нефть и газ, завтра еще что-нибудь, — но кто вообще сказал, что этот ресурс конечен? Газа и торфа в болоте образуется достаточно, выражение «болотный газ» сделалось нарицательным, кончится нефть — начнется никель или мало ли что еще, а что до возможностей внешнего завоевания, так ведь абсорбционный потенциал России огромен и довершает ее сходство с упомянутым ландшафтом. Она даже не абсорбирует — она засасывает: живя и работая в России, можно вести себя лишь строго определенным образом, а соблюдать этот образ жизни и кодекс поведения как раз и значит быть русским (именно поэтому так бесперспективны попытки поставить во главу национальной идентификации устаревший этнический принцип). Так что никаких внешних угроз, а равно предпосылок к самопроизвольной мелиорации не наблюдается. Что до перспективы международной мелиорации — так ведь болото самодостаточно. Для болота 13 000 лет — молодость, см. справочную литературу. Оно прекрасно проживет в полной международной изоляции, ибо болота куда устойчивей тех же суходолов; в смысле живучести их можно сравнить только с пустынями, в которых вообще почти ничего нет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: