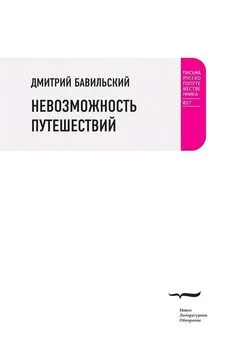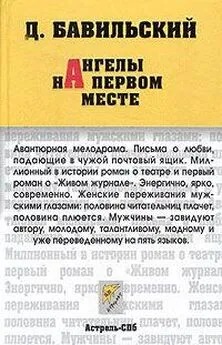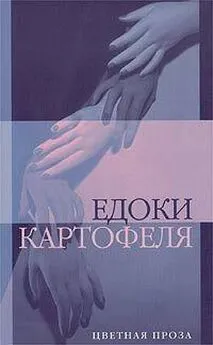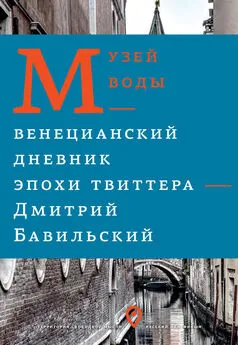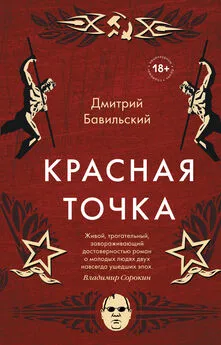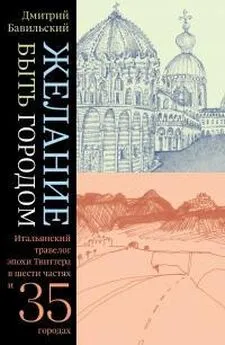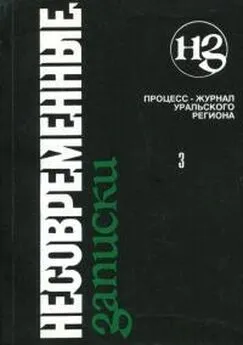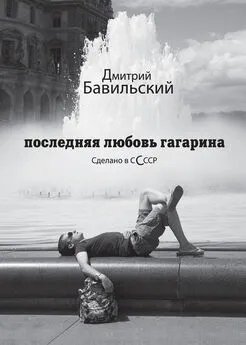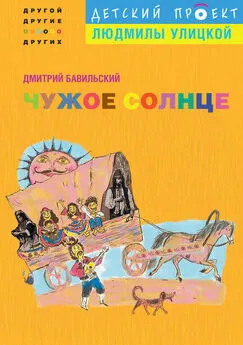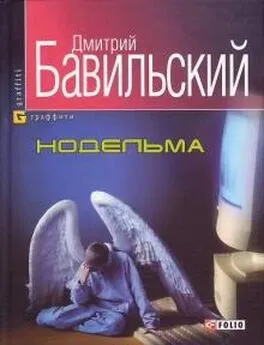Дмитрий Бавильский - Невозможность путешествий
- Название:Невозможность путешествий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0325-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бавильский - Невозможность путешествий краткое содержание
Книга Дмитрия Бавильского, посвященная путешествиям, составлена из очерков и повестей, написанных в XXI веке. В первый раздел сборника вошли «подорожные тексты», где на первый взгляд ничего не происходит. Но и Санкт-Петербург, и Тель-Авив, и Алма-Ата, и Бургундия оказываются рамой для проживания как самых счастливых, так и самых рядовых дней одной, отдельно взятой жизни. Второй цикл сборника посвящен поездкам в странный и одновременно обычный уральский город Чердачинск, где автор вырос и из которого когда-то уехал. В третьей части книги Д. Бавильский «вскрывает прием», описывая травелоги разных эпох и традиций (от Н. Карамзина и И.-В. Гете до Э. Гибера и А. Битова), которые большинству людей заменяют посещение экзотических стран и городов. Чтение — это ведь тоже путешествие и подчас серьезное интеллектуальное приключение.
Невозможность путешествий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для чего, собственно, и нужно, а подчас просто необходимо читать чужие письма.
Начало поездки (именно с точки зрения путешествующего повествования) кажется многообещающим. Из Женевы (27.09.1836) Гоголь пишет Н. Я. Прокоповичу о посещении усадьбы Вольтера, о котором, впрочем, он пишет как о живом:
« Сегодня поутру посетил я старика Вольтера. Был в Фернее. Старик хорошо жил. К нему идет длинная, прекрасная аллея, в три ряда каштаны, дом в два этажа из серенького камня, еще довольно крепок…
Сад очень хорош и велик. Старик знал, как его сделать. Несколько аллей сплелись в непроницаемый свод, искусно простриженный, другие вьются не регулярно, и во всю длину одной стороны сада сделана стена из подстриженных деревьев в виде аркад, и сквозь эти арки видна внизу другая аллея в лес, а вдали виден Монблан. Я вздохнул и нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавши себе отчета для чего… »
В этом же письме Гоголь поминает Байрона, впрочем, не упоминая его, а Женеву, где прожил больше месяца, сравнивает с Тобольском.
Страсть подчиняет собой все человеческое существо — ударение тут падает на каждое слово: все (!) человеческое (!!) существо (!!!), вытесняя менее сильные мотивации и исчезает, только если сожрет человека окончательно, уничтожив, таким образом, собственный корешок. Однако структуры эти, один раз внутри организма выведенные, не могут существовать в полом виде, порожняком; отчего на смену сожранной страсти приходит другая, еще более опасная и роковая.
Кажется, судьба Гоголя должна явиться предостережением для тех, кто увлекается своими направлениями так, что перестает ставить перед ними какие бы то ни было сдерживающие факторы и, в конечном счете, забывает себя и то, кто он есть, точнее, кем он был на самом деле ; заигрывается.
Одна важная мотивационная система (писательско-пророческая) постепенно уступает у Гоголя место другой (православно-пророческой); замаливание грехов и самоукорот оказываются логическим продолжением писательского самосожжения, вылезающим, как из под пятницы суббота, исподним одного и того же вируса общественного служения и личной ответственности, разрывающих мозг невозможностью соответствовать особенностям текущего момента и таким образом исправить (починить, наладить) их.
После чего человек начинает налаживать и перекраивать самого себя — и как то, до чего ближе всего добраться, и как то, что, единственное, ему всецело подвластно и всецело ему подчинено.
Симптом незрячести нарастает у Гоголя постепенно.
Первое путевое письмо, написанное Жуковскому (Гамбург, 28.06.1836) еще полно предотъездных треволнений (связанных с финансовым обеспечением путешествия), а также питерских тем и реалий, из-под которых, как из-под глыб, писатель должен выбраться этим самым отъездом, для того чтобы освободить свою голову для главного дела — написания главной русской книги «Мертвые души».
(В этом смысле показательно участие, которое он принимает, судя по письмам, в том числе и тому же Жуковскому, в судьбе художника А. А. Иванова, писавшего тогда многолетнее «Явление Христа народу», главную русскую картину ; таковы, по всей видимости, и были понятия и принципы той богатырской эпохи, что обрушилась и тем порушила своих детей.)
Второе письмо, сестрам (Ахен, 17.07.1836), как и пара последующих за ним других, переполнено путевыми заметками и замечаниями (в нем есть даже рисунки с изображением особенностей немецкой городской и готической архитектуры), разжеванными Гоголем в стиле, напоминающем детские книги «для самых маленьких», хотя и выполненными в фирменном гоголевском стиле с вниманием к петляющему и избыточно дотошному до деталей синтаксису:
« Знаете ли вы, что такое пароход? Но нет, вы не знаете, что такое пароход, потому что он, кажется, никогда не прогуливался под вашими окнами. Это корабль, который беспрестанно дымится и запачкан, как трубочист, но зато идет гораздо скорее, нежели обыкновенный корабль. Я думаю, вам показалось бы очень странным ехать на корабле. Вообразите, что кругом вас одно море, — море, и больше ничего нет. Вы, верно бы, соскучились, но у нас было очень большое общество, дам было чрезвычайно много, и многие страшно боялись воды, одна из них, m-m Барант, жена французского посланника, просто кричала, когда сделалась буря… »
Этот, едва ли не произвольно взятый фрагмент весьма показателен для стиля и оптики гоголевских текстов — начиная от обобщающего общего, постепенно он, как бы по самоорганизующейся (или, точнее, им самим организованной) спирали, движется как по постоянно суживающемуся тоннелю к каким-то отдельным деталям и частностям ( «у алжирского дея под самым носом шишка» ), более уже не замечая ничего из того, что есть вокруг.
Собственно, в этом и заключен (точнее, проявлен) его писательский дар, одно из проявлений его замечательной сосредоточенности (читай: увлеченности, поглощенности), кристаллизующейся в какой-то момент в непреходящей (если вдруг ее не было , то теперь, когда написано, проявлено, так стало и теперь мимо не пройти, не объехать) сути.
Гоголь организует внутри письма этакие интенциональные воздуховоды (как сказано в «Мертвых душах» про сон), « на всю насосную завертку » сужающие зрение, но и, одновременно, расширяющие его так, что становится « сразу видно во все стороны света ».
Каждое новое (старое) действующее лицо, появляющееся в путевой переписке (М.П. Погодин, Н.Я. Прокопович, П.А. Плетнев, С.Т. Аксаков, М.С. Щепкин etc) быстро проводится через процедуру травеложной инициации (Гоголь бегло описывает свои географические обстоятельства, примерно в таком духе: « Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь… »), чтобы затем, очень скоро, перейти к тому, что ему действительно важно — сначала к процессу написания «Мертвых душ», затем к процессу публикации (прохождения через цензуру), затем к процессу чтения и осмысления поэмы. Гоголь буквально требует от своих респондентов не только высказывать собственное мнение, но и переписывать ему на тонкие листы (дабы в конверт могло вместиться поболее) критику из свежих номеров журналов. А добровольного своего помощника П.В. Анненского инструктирует (10.02.1844, из Ниццы) ходить по разным компаниям и светским кругам, ходить и слушать, что же они там говорят о Николае Васильевиче, как если у светских и творческих кругов иных тем нет.
«Круг, в котором вы обращаетесь, большей частию обо мне хорошего мнения, стало быть, от них что от козла молока. Нельзя ли чего-нибудь достать вне этого круга, хотя чрез знаковых ваших знакомых, через четвертые и пятые руки? Можно много довольно умных замечаний услышать от тех людей, которые совсем не любят моих сочинений. Нельзя ли при удобном случае также узнать, что говорится обо мне в салонах Булгарина, Греча, Стенковского и Полевого? В какой силе и степени их ненависть, или уже превратилась в совершеннейшее равнодушие?…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: