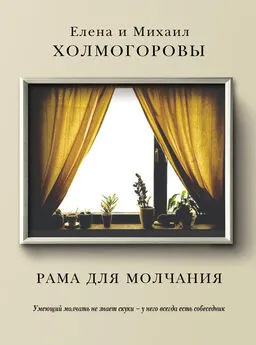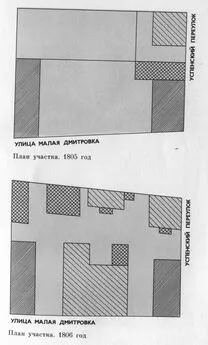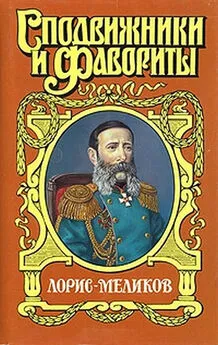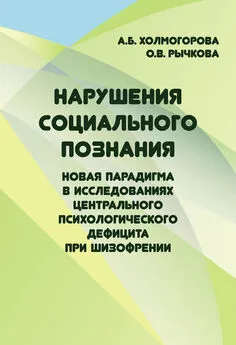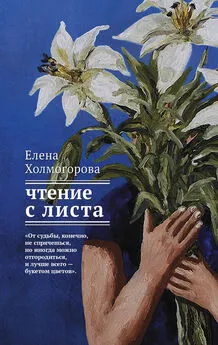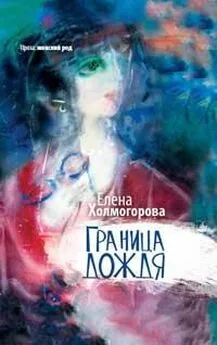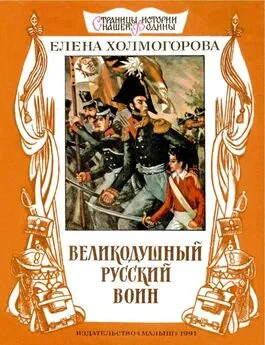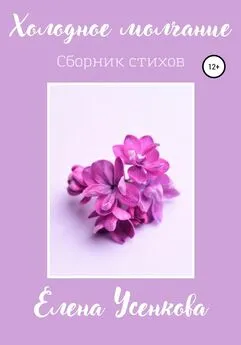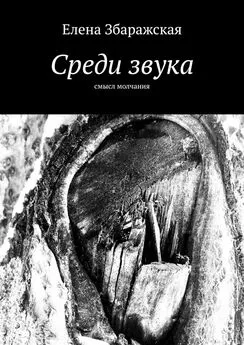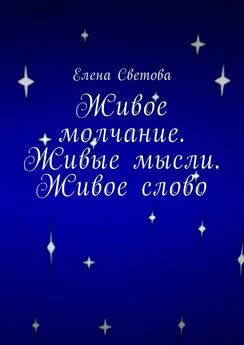Елена Холмогорова - Рама для молчания
- Название:Рама для молчания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Холмогорова - Рама для молчания краткое содержание
Рама для молчания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В деревню отправлялись не только старые, но и просто надоевшие вещи. (Приехав, я то и дело с радостью узнавания видела на ком-нибудь свои или родительские одежки, зачастую использованные в самых немыслимых сочетаниях.) И, естественно, подарки: к Новому году, 8 Марта и Казанской Божией Матери – престольный праздник давным-давно разрушенного храма, по традиции отмечаемый уже как вполне светский. Что-то вроде Дня деревни Юшино.
…Дорогу эту я не забуду никогда. Пересадка на станции Суземка, где в давке у меня слетела и навсегда сгинула на шпалах новая туфелька, общий вагон, где на полке положено было ехать троим, а на самом деле – сколько уместится. Какой-то полустанок, где поезд стоял минуту и надо было успеть выгрузить чемоданы и тюки. (А может, это и была Суземка, а пересадка где-то еще – сейчас не вспомню.) И наконец – Петр Иванович на облучке, телега, устланная пахучей соломой, и впервые в жизни меня везет не мотор, а живое существо – коричневая (гнедая – поправила тетя Паня) лошадь с дивными глазами, как у красавиц, какими иллюстрировал мой дед-художник всякие восточные сказания.
Больше всего меня поразило, что дома (хаты – опять редактировала тетя Паня) были крыты соломой и что в деревне не было электричества. Потом я узнала, что до войны свет там был, но то ли фашисты, то ли наши взорвали плотину, и за двадцать лет, прошедших после Победы, так ничего и не восстановили.
Поселили нас в освобожденном по этому случаю от хлама чуланчике. В нем не было потолка. Над головой – стропила и скат крыши. Во время сильных дождей то и дело на мой набитый сеном тюфяк сочилась капель.
В первые дни мне было трудно есть приготовленную на печке еду – мешал привкус дыма, потом привыкла. Я все боялась, что кормить будут кашами, к которым с детства питала отвращение. Но на мое счастье оказалось, что главная еда – картошка, которую я обожала во всех видах.
Тогда, в середине шестидесятых, почта работала хорошо – тому свидетельство часть сохранившихся моих писем родителям, когда я поехала в Юшино во второй раз. Писала я примерно через день, и все приходило регулярно. Неизвестные мне доселе слова я обозначала фонетически, поэтому в письмах возникает «кальер», «Алхирейский лес» и загадочное – яблоки сорта «опороть» (как впоследствии выяснилось, имелся в виду «апорт»). В письмах среди прочего обнаружились совершенно мною забытые детали быта. Оказывается, например, проблемой в Москве были подушки:
«Советовались мы насчет пуха. Старый пух с новым смешивать нельзя, потому что старый так и будет кусками и только все испортит. Пух стоит 7 рублей кг, на подушку надо 2 кг. Дешевле не отдадут: 14 рублей пух, да материал. Может, лучше купить перо на две подушки?»
Как же не похожи были эти два лета на привычную дачную жизнь, где компания моих ровесников гоняла по округе на велосипедах, у кого-то играли в пинг-понг, а у кого-то родители разрешали в карты – в кинга или просто в подкидного дурака, где танцевали под пластинки твист и чарльстон, вечерами пили со взрослыми чай на террасе под непременным оранжевым с бахромой абажуром, а потом чинно прогуливались, неспешно беседуя, по улицам поселка.
Здесь вечером выходят на горку встречать стадо. Там же узнают все новости. Я поначалу все удивлялась, как находят в этой толпе свою корову, а когда стала ухаживать за телочкой Галкой, увидела, какие у них у всех разные лица. Телочка была маленькая, ее еще не гоняли в стадо, а привязывали пастись на длинной веревке к колышку. В полдень надо было принести ей ведро воды, она уже ждала меня, и мы долго шептались щека к щеке, и иногда она облизывала мне нос своим неожиданно шершавым языком.
В деревне компании сверстников у меня не завелось. Тетя Паня всячески ограждала меня от дурных влияний, притом что налитая мне, тринадцатилетней, стопка самогона за взрослым столом ее совершенно не смущала, как и крепкие словечки, каковыми изобиловала речь на посиделках, пока разговоры не сменялись пением «Вот кто-то с горочки спустился…». Самогона, именовавшегося ликер «Три бурака», поскольку гнался из свеклы, всегда было вдоволь, на стол ставилась огромная сковорода «жаренки», то есть яичницы с салом, соленые огурцы, и так можно было сидеть допоздна. Со взрослыми я чувствовала себя легко. Когда первый острый интерес ко мне прошел (полагаю, что наш приезд был некоторое время главной местной новостью), у меня появилось много добрых знакомых. Я была страшно любопытна, а людям всегда приятно, когда с ними беседуют о важном для них. Московская жизнь отошла далеко-далеко. И как о самом существенном я писала домой: «У тетки Даши окотилась овечка. А у соседки Натальи заболела корова, так она дала ей литр самогона, и она поправилась. Зато вчера случилось несчастье: упала в кальер корова. Десять мужиков еле вытащили. Думали, придется резать, тетя Маруся так страшно кричала, прямо выла. А потом зоотехник посмотрел – цела корова. Праздновали. Пели «Из-за острова на стрежень…» Несмотря на запреты, гнали самогон все. Но принимались известные участковому не хуже, чем всем остальным, меры предосторожности. Снаружи на дверь водружался огромный висячий замок – никого, мол, нет дома, потом надо было влезть в окно, запереться изнутри – и можно начинать. Дым валит из трубы, но замок-то снаружи! Пуще всего боялись конфискации самогонного аппарата – большая ценность: «Спекулируют вовсю дрожжами. Вместо семи копеек за пачку продают за тридцать. А если берешь мало, то есть на рубль или два, то дают на рубль три пачки». Какая точность! И в любом письме – интерес к колхозной жизни: «Народ очень недоволен: подогнали проценты сена под Спас. Теперь хошь в город, хошь коси. Еще все очень недовольны тем, что колхоз перевели с трудодней на деньги, потому что раньше давали и денег, и хлеба, а теперь зерна не дают и скот кормить нечем. А если кто продает корову, это приравнивается к продаже последней рубахи».
Вставали, естественно, рано. В Москве я не представляла себе, чем, собственно, буду заниматься в деревне, взяла с собой два детектива на английском языке, но до них дело не дошло. Только в неделю, когда лили дожди.
Зато я неожиданно втянулась в крестьянскую работу.
Это получилось как-то само собой. Попросилась в поле посмотреть. Стоять и глазеть было стыдно, начала помогать. Все умилялись, мол, барское дитя развлекаться изволит. В общем, типа Льва Николаевича «пахать подано, ваше сиятельство». Разозлилась ужасно. Назавтра повязала по-здешнему косынку и попросила грабли. Через неделю уже никто не удивлялся, все только радовались лишним, пусть и слабеньким, рабочим рукам.
Я страшно боялась ездить на возах. С вершины даже лошадь, его тянущая, казалась игрушечной, а сено, хоть и туго свитое веревками, ходило ходуном и кренилось набок при каждом повороте. Идти было далековато, ныли руки в мозолях, гудели ноги, и так заманчиво было влезть на стог и, покачиваясь, плыть над лошадью и бабами с граблями на плечах. Но необъяснимый страх не пускал меня наверх. Это было в первый приезд. А во второй я писала домой:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: