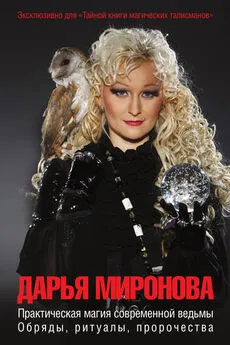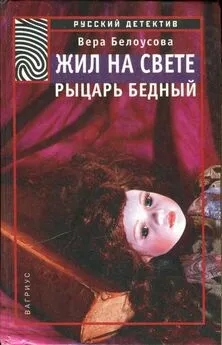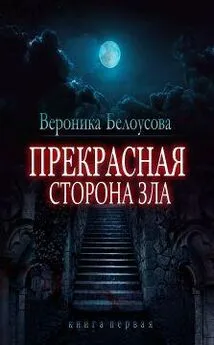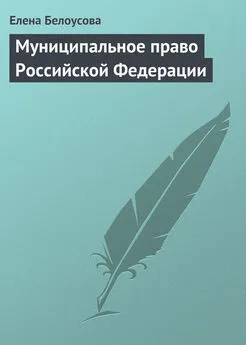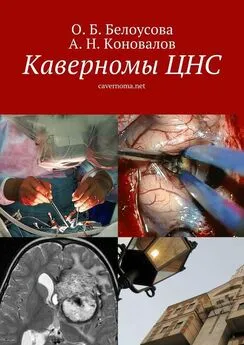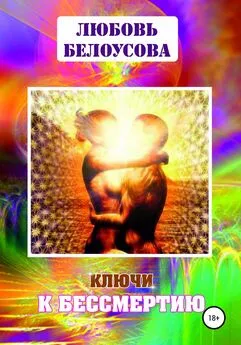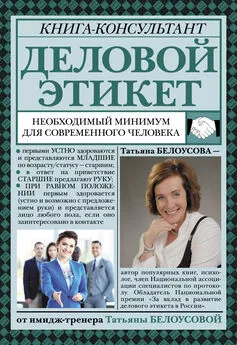Е. Белоусова - Современный родильный обряд
- Название:Современный родильный обряд
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Е. Белоусова - Современный родильный обряд краткое содержание
Е. А. Белоусова, кандидат культурологии, автор книги «Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры» (РГГУ, 2001) показывает, как родильный обряд, известный в традиционных, архаичных культурах, продолжает свое существование в наши дни, пусть и в сильно измененном виде.
Современный родильный обряд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Распространенный мотив женских рассказов о родах — унижения и оскорбления, которым они подвергаются в роддомах. Объяснение, даваемое этому явлению самими женщинами — усталость и занятость медперсонала при низкой зарплате — не представляется достаточным. Отношение медперсонала — как везде у нас. Их тоже можно понять — они уже тоже озверевшие, как все, по-моему, в нашей стране <���…> Всё это, конечно, от зарплаты зависит, от условий, в которых люди работают <���…> целая комната детей, и одна сестра еле живая приходит за копейки — ну так что ожидать (И8).1 Объяснение медработников — необходимость снятия стресса — также не представляется удовлетворительным: «Совсем не ругаться на операциях гораздо труднее для психики. Высказаться — значит ослабить напряжение, поймать спокойствие, столь необходимое в трудных ситуациях хирургов <���…> К вопросу о слежении: ни один хирург, что ругается на операциях, не теряет контроля над собой. Он сознательно ругается. Уж можете мне поверить» (Амосов 1978: 99-100). Такие объяснения не отвечают на вопрос, почему именно этот способ разрядки выбирается из тысячи возможных психотехник. Исследования психологов показали, что на сильный стресс, напряжение человек реагирует молчанием, в то время, как реакцией на слабый стресс может быть брань, инвектива.
Представляется, что в данном случае мы имеем дело с так называемой социальной инвективой, используемой определенной социальной группой в определенной ситуации (Жельвис 1997: 37–39; Ries 1997: 72). По В.И. Жельвису, одной из важнейших функций инвективы является снижение социального статуса оппонента (Жельвис 1997: 100). Цель инвективы — заставить оппонента осознать всю бездну своего ничтожества. Однако остается неясным, почему именно в этом месте и в это время женщине требуется внушить подобное представление.
Ситуация несколько прояснится, если мы вспомним о том, что роды традиционно относят к переходным обрядам, теория которых разработана А. Ван-Геннепом (van Gennep 1960) и развивается В. Тэрнером (Тэрнер 1983). Суть обрядов перехода заключается в повышении социального статуса иницианта. Для этого он должен символически умереть и затем вновь родиться в более высоком статусе. Путь к повышению статуса лежит через пустыню бесстатусности: «чтобы подняться вверх по статусной лестнице, человек должен спуститься ниже статусной лестницы» (Тэрнер 1983: 231).
В «обычной» жизни беременная женщина обладает достаточно высоким социальным статусом, она уже в большой мере «состоялась»: как правило, она уже вышла замуж, овладела профессией, достигла некоторого материального благополучия, и главное — она уже практически мать. Но в ритуале ее статус «волшебным образом» невероятно снижается. Ей предписывается пассивность и беспрекословное послушание, покорное принятие нападок, ругани и оскорблений. Все это полностью соответствует традиционному поведению инициантов в описании Тэрнера: «Их поведение обычно пассивное или униженное; они должны беспрекословно подчиняться своим наставникам и принимать без жалоб несправедливое наказание» (Тэрнер 1983, c.169). И это обстоятельство нисколько не мешает тому, чтобы быть одним из главных действующих лиц ритуала: это специфика роли. Главный герой в ритуале играет пассивную роль: обряд совершается над ним, ему жестко предписывается недеяние (Байбурин 1993: 198). По наблюдению Т.Ю. Власкиной, описывающей родильный обряд в донской казачьей традиции, «Будучи не столько субъектом, сколько объектом ритуальных манипуляций, роженица, согласно традиционным нормам, как правило, бессловесна <���…> Женщина в родах становится бессловесным пассивным телом…» (Власкина 1999: 4, 6). Западные и русские феминистки возмущаются бездействием женщины в родах: ей не дают действовать, отвечать за свои поступки, играть по своему сценарию. Но это оказывается невозможным при столкновении с огромной силой традиции. Представляется, что в данном случае бездействие — не просто отсутствие действия, а значимый элемент обряда. С бездействием связана специальная роль иницианта, предполагающая пассивность, идентификацию с податливым материалом в руках посвятителей, из которого в ходе ритуала сделают то, что надо («у подобных испытаний есть социальный смысл низведения неофитов до уровня своего рода человеческой prima materia, лишенной специфической формы…» (Тэрнер 1983: 231).
Интересно, что при описании своих переживаний, касающихся предстоящих родов, информанты используют метафору, предельно точно воспроизводящую форму архаического обряда инициации: посвящаемого проглатывает чудовище (Пропп 1996: 56). Апелляция к этому архетипическому образу лишний раз свидетельствует о восприятии современным сознанием внутренней сущности родильного обряда как инициационной: Первый раз представление о родах было такое, как будто бы я, как жертва несчастная, в пасть к Ваалу по конвейеру качусь. Я почему говорю — конвейер — потому что именно как на дорожке — я могу не делать никакого движения, но меня все равно тащит и влечет. Это еще от неизвестности, там. Мне мерещилось, что-то там такое было. Но я старалась просто об этом не думать. И все эти заботы конечно тоже — я думала — господи, это значит привязан, много всяких мыслей было. Но и сам процесс родов — тоже он. Я помню, что как подумаю — сразу какая-то такая зубастая харя мерещилась. Не то, чтобы я представляла себе зубастую рожу, а вот этот вот в глубине какой-то образ сразу всплывал — нечеткий, страшный. Именно вид какой-то темной пасти с огнем в глубине этой пасти, и что я туда провалюсь и не знаю, что там будет — может, даже помру. Но я просто старалась об этом не думать. Но все равно же так или иначе эти мысли приходят, и чем дальше, то… Единственное, что я понимала — что не я первая, не я последняя, и не отвертишься — это не рассосется само, неизбежно. А второй раз я, конечно, боялась, но боялась уже совершенно определенного — что больно будет там это и еще раз (И55).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: