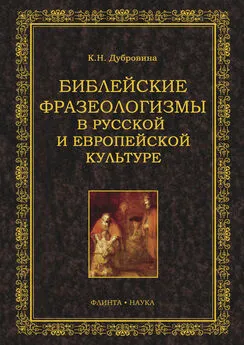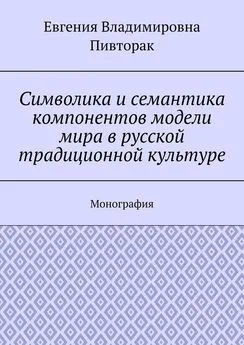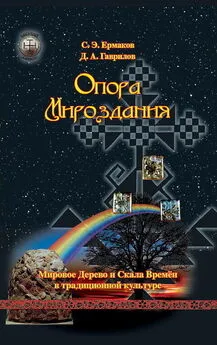И. Кон - Секс и эротика в русской традиционной культуре
- Название:Секс и эротика в русской традиционной культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ладомир
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-86218-218-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И. Кон - Секс и эротика в русской традиционной культуре краткое содержание
В сборнике исследуются исторические корни фольклорной эротики и ее место в традиционной культуре русского и других славянских народов. В большинстве статей широко использованы неизвестные ранее материалы (древнерусские рукописные и археологические источники, архивные и полевые записи). Особое внимание уделено миру женщины и его отражению в фольклоре, мифологии, обрядах, традиционной символике.
Секс и эротика в русской традиционной культуре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К началу Нового времени отношение к «соромяжливости» женщины ужесточилось. С внедрением церковных представлений о целомудрии стали считаться предосудительными любые обнажения и разговоры на сексуальную тему, а в исповедных сборниках не только не прибавилось казусов и исповедных вопросов, но и имеющиеся были сокращены и унифицированы. [130] Тот же процесс шел на Западе. См.: Matthews Gneco S. F. La retour de la pruderie II Duby G., Perrot M. (Dir.) Histoire des femmes en Occident. Paris, 1991 (далее — HdF). V. III. P. 76. Утверждение A. И. Клибанова о том, что уже в конце XV — начале XVI в. «с чувственного опыта была согнана мрачная тень греха» (Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI в. М., 1960. С. 352), представляется «подтягиванием» России к ренессансному Западу. «Ничто же пред очесы человеческими обнажит еже обыкновение и естество сокровенно имети хочет» (Епифаний Славинецкий. Гражданство обычаев детских // Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV–XVII вв. М., 1985. С. 330).
Реже стали встречаться запрещения супругам «имети приближенье» по субботам (ранее сексуальные отношения в ночь с субботы на воскресенье часто вызывали протест церковнослужителей как любой грех, совершенный в праздничный день), исчезло требование воздержания по средам и пятницам. Изменилась «мера пресечения» для тех, кто, «помыслив» о греховных плотских удовольствиях, не совершил ничего из воображаемого («не сътворил ничто же») — исповедник настаивал вместо прежних многодневных постов всего лишь на 40 земных поклонах. [131] Требник XVI в. // HM. BNL. № 246. Л. 162 п.; Требник 1580 г. // HM. SMS. № 171. Л. 263 п. В том числе в случае эротических снов: Там же. Л. 159 п. Если в подобной ситуации окажется поп — наказание 150 поклонов и «да не литургисает» (то есть служить в такой день он не должен). См.: Там же. Л. 253 л.
Даже за съблазнение во сне предписывалось лишь «помолиться да поклониться» и не налагалось запретов «в олтарь влазати». [132] Требник XVI в. // HM. BNL. № 246. Л. 159 п.
Регламентация интимной жизни женщин стала менее мелочной, но не менее строгой: так, в XVI в. в назидательных сборниках появилось требование раздельного спанья мужа и жены в период воздержанья (в разных постелях, а не в одной, «яко по свиньски, во хлеву»), [133] МДРПД. С. 51, 65, 241; Исповедь. С. 92, 145, 148, 151, 161, 279; раздельное спанье могло быть осуществлено лишь в домах элиты; особо строго к требованию «опочивать в покоях порознь» относились в царской семье (См.: Котошихин Г. Указ. соч. С. 157); простой народ спал «на печи, рядом мужчины, женщины, дети, слуги и служанки, под печами мы встречали кур и свиней» (Олеарий А. Указ. соч. С. 203, 222).
непременного завешивания иконы в комнате, где совершается грешное дело, снятия нательного креста. [134] Требник 1606 г. // Collection of Printed Slavonic Books. University of Toronto. № 49. P. 671; Русский требник. XVI в. // HM. BNL. № 246 (103). Λ. 135.
В то же время стремление избежать богопротивного дела дома заставляло «нецих велми нетерпеливых» «женок» совершать его в церкви со священниками. Вероятно, это не казалось средневековым московитам кощунственным. Об этом говорит и то, что наказание женщин за этот проступок не было строгим. [135] Сексуальный грех в церкви считался даже менее предосудительным, чем «упьянчивый» священник (Памятники старинной русской литературы. T. IV. СПб., 1862. C. 149). В «Повести о Тимофее Владимирском» юная прелестница совершает в церкви «блудный грех» с исповедующим ее священником: «не могши терпети разгорения плоти своея», священник «пал на девицу» прямо в храме, но покаялся и был прощен митрополитом (Русские повести XV–XVI вв. М., 1958. С. 292–294). За подобное преступление во Франции совершившие его подвергались остракизму и быть «прощены» не могли (Maurel Ch. Structures familiales et solidarités linagères à Marseille au XV siècle: Autur de l'ascension sociale des Forbin // Annales: E.S.C. 1986. № 3. P. 680).
В отличие от Запада, в православных учительных текстах не было и не появилось запрещений «любы телесной, телесам угодной» во время беременности женщины. [136] Яковлев В. A. К литературной истории древнерусских сборников. Опыт исследования «Измарагда». Одесса, 1893. С. 57–59; Flandňn J. — L. Un Temps pour embrasser: Aux origines de la morale sexuelle occidentale (VI–XI ss.). Paris, 1983. P. 13–15, 82.
Зато достаточно жестким оставалось введенное еще во времена первых переводных учительных сборников запрещение вступать с женой в интимный контакт в дни ее «нечистоты» (менструаций и 6 недель после родов). Несмотря на положительное влияние этой рекомендации на здоровье женщин, «подтекст» ее был отнюдь не гигиенический. Женщина считалась «ответственной» за временную неспособность к деторождению, любое же кровотечение могло означать самопроизвольный или, хуже, специально инициированный аборт (отсюда — требование немедленно покинуть храм, если месячные начались у нее в церкви). [137] Требник 1580 г. // HM. SMS. № 171. Λ. 266 л. (наказание — 100 поклонов); то же в католических странах: Flandrin J. — L. Un Temps pour embrasser… P. 73–82. Однако примечательно: осужденную на казнь беременную женщину в Московии не подвергали наказанию до родов и 40 дней после них. См.: Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII в. Л., 1986. № 244. С. 179.
Применение контрацепции («зелий») наказывалось строже абортов: аборт, по мнению православных идеологов, был единичным «душегубством», а контрацепция — убийством многих душ, [138] МДРПД. С. 59, 61, 64; РИБ. С. 57; 5 лет епитимьи за аборт против 7 лет за контрацепцию: Требник 1656 г. // HM. SMS. № 170. Л. 89 п.
поэтому епитимья за нее назначалась на срок до 10 лет. Некоторые клирики полагали, что применение контрацептивов «мужатицами» даже более предосудительно, нежели попытки избавиться от плода случайно попавших в беду незамужних «юниц». [139] Номоканон сербской редакции. Нач. XVII в. // HM. SMS. № 628. Л. 4 л.—5.
Для церковных идеологов не было секретом, что аборт был нередко следствием досадной неосторожности «блудивших» жен, и потому о всех вытравительницах и решившихся на искусственное прерывание беременности говорилось как о безнравственных «убивицах»: «и не испытуем» (то есть вопрос — недискуссионный) заключали они. [140] Требник 1540 г. // НМ. VВІ. № 15. Л. 431 л.
Любопытно, что контрацепция (в том виде, в каком она была известна в средневековье) рассматривалась церковными деятелями как безусловное зло по отношению к здоровью самой женщины, а попытки избавиться от ребенка во чреве — предупреждалось в церковных текстах — могут привести к серьезным нарушениям в организме («омрачение дает уму») и даже смерти вытравительницы. [141] Требник середины XV в. // HM. SMS. № 77. Л. 198 п. — 200 л.; Требник XV–XVI вв. // HM. SMS. № 378. Л. 155 л.
Тем не менее женщин, измученных частыми родами и мечтавших «отъять плод», было на Руси немало. Нередко выкидыши случались от выполнения непосильной работы или от побоев домашних («аще муж, риняся пьян на жену, дитя выверже») — в этом случае избавление от плода рассматривалось как несчастье для самой женщины и не наказывалось церковным законом. Напротив, преждевременные роды, случившиеся у женщины от ее «нерадения», от того, что «не чюет дете в собе», наказывались как душегубство. [142] Требник 1580 г. // HM. SMS. № 171. Л. 286 п.
Дифференцируя степень вины женщин за искусственное прерывание беременности, церковный закон был особенно строг к тем из них, кто решился на аборты на поздних сроках: в умертвленных младенцах им виделись действительно загубленные души («аще зарод еще» — 5 лет епитимьи, «аще образ есть» — 7 лет, «аще живое» — 15 лет поста). [143] Подробнее см.: Пушкарева Н. Л. Женщина в древнерусской семье (X–XV вв.) // СЭ. 1988. № 4. С. 23.
Иногда аборт («прокаженье дете в собе») призван был скрыть последствия внебрачной связи — тогда наказание женщины сводилось к году «сухояста» (поста «о хлебе и воде») и 10-летнему отлучению от причастия. [144] Требник 1580 г. // HM. SMS. № 171. Л. 252 п.
Интервал:
Закладка: