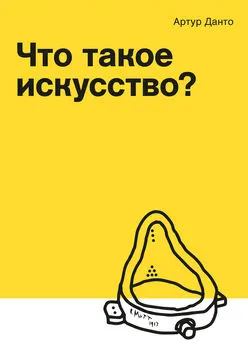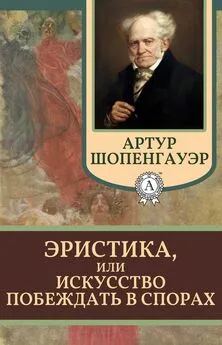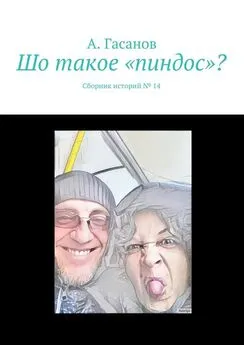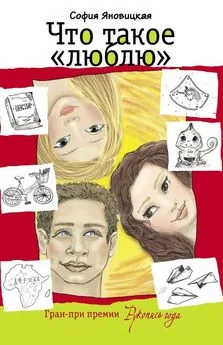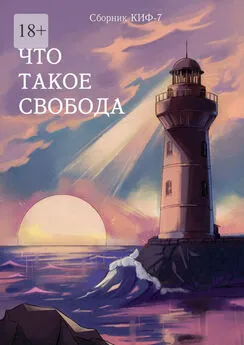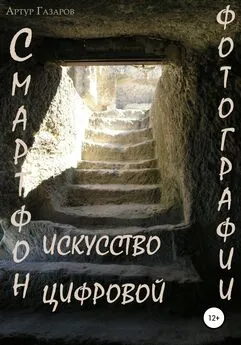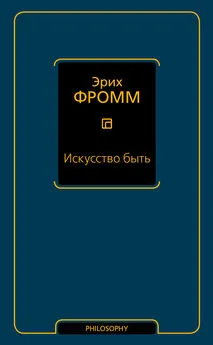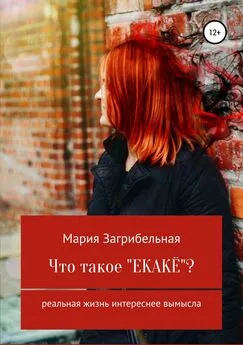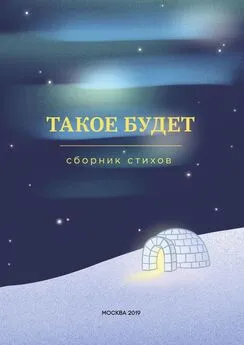Артур Данто - Что такое искусство? (сборник)
- Название:Что такое искусство? (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-346-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артур Данто - Что такое искусство? (сборник) краткое содержание
Что такое искусство? (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Только недавно я понял, что живописцы XIX века, скорее всего, действительно верили в то, что оптическая правда определяется фотографией, насколько бы чуждыми человеческому зрению ни были порой воспроизводимые ею образы. Хорошим примером этого служат фотографии лошадей в движении, сделанные Эдвардом Майбриджем. Живописцы решили, что его изображения показывают, как на самом деле выглядит бегущая лошадь, и принялись подражать его фотографиям, хотя в реальности мы видим бегущую лошадь совсем иначе. В действительности мы не видим животных в движении так, как их показывает Майбридж, – в противном случае в фотографиях вообще не было бы никакой нужды: ведь Майбридж занялся своими странными, но на первый взгляд вполне обоснованными опытами для того, чтобы, помимо прочего, ответить на вопрос о том, касается ли бегущая лошадь земли всеми четырьмя копытами одновременно, – иначе говоря, чтобы мы смогли наблюдать явления, которые не может уловить человеческий взгляд. Опубликованные фотографии Майбриджа повлияли на Томаса Икинса, на футуристов и особенно на Эдгара Дега, который иногда рисовал лошадей, бегущих по беговой дорожке на прямых ногах – так, как это можно увидеть на фотографиях Майбриджа, но не в жизни. Дега, который и сам занимался фотографией, считал, должно быть, что фотографии учат нас тому, как мы должны видеть, даже если сами изображения и выглядят не совсем естественно. Такой подход путает оптическую правду со зрительной. Майбридж смеялся над викторианскими живописцами, хотя лошади, изображенные ими, выглядели гораздо более реалистично, чем его оптически верные фотографии. Художники изображали лошадей стереоскопически.
Еще один пример – портреты. Чтобы убедительно передать человеческие чувства в рамках сложившихся конвенций сюжетно-тематической живописи, академическим художникам нужно было изобразить на лице человека не непосредственное выражение его мимических состояний, передающих сильные чувства вроде горя, радости или злости, а поймать момент смены этих состояний. Сегодня, имея в распоряжении фотопленку светочувствительностью 160 единиц ISO и камеру, способную отрабатывать выдержку в 1/60 секунды и короче, мы имеем возможность запечатлеть лицо человека «между двумя выражениями» таким, каким оно недоступно для восприятия невооруженным глазом. Вот почему мы отметаем многие кадры с индексного листа со словами: «Я здесь на себя не похож». Мы выглядим на фотографиях не так, как в зеркале: камера нередко делает лица неузнаваемыми, как на знаменитых портретах работы Ричарда Аведона. Главным и, в сущности, единственным, что дает фотографу современная камера, является возможность создавать моментальные кадры за счет остановки движения и получать такие результаты, которых никогда не достичь при помощи живописных портретов. (В этом смысле лошадь Дега – это трехмерный моментальный кадр.) Кадр показывает «оптическую правду», но он не соответствует перцептивной правде, то есть тому, как мы – стереоскопически – видим мир. Впервые я понял это, когда увидел фотографию моего друга философа Исайи Берлина, сделанную Аведоном. На снимке Исайя запечатлен не таким, каким его знали родные и близкие: он едва узнаваем и выглядит как мрачный нелюдимый ворчун. Более того, неверно было бы сказать, что он «иногда» так выглядел. Для обычного зрения он не выглядел так никогда. Его видела таким лишь камера с фотопленкой светочувствительностью 160 единиц ISO, открытая на 1/60 секунды при диафрагме 22, что для человеческого глаза, естественно, невозможно. С этой точки зрения камера демонстрирует ограниченность возможностей человеческого глаза. Она показывает, как бы выглядел мир, если бы мы видели его так же, как его видит объектив. Так что вы можете смело выбрать кадр с индексного листа, будучи уверенными, что он действительно показывает реальность такой, какая она есть, – лучше, по крайней мере, чем искаженное изображение человека, которого много раз одергивали: «Не двигайся! Еще немного!» – прежде чем отпустить, объявив: «Получилось!»
Я наглядно представил всё это, когда думал о картинах Эдуара Мане, посвященных казни императора Максимилиана: они были выполнены в период с 1867 по 1869 год и составили серию из пяти полотен, которые были выставлены все вместе на прекрасной дидактической выставке, организованной в мае 2006 года Джоном Элдерфилдом в нью-йоркском Музее современного искусства. Фотографических свидетельств изображенного события не существует из-за запрета на фотосъемку со стороны мексиканских властей. Во время работы Мане опирался на газетные отчеты, а подробности менялись с появлением дополнительных известий. Сначала Мане предположил, что казнь совершили мексиканские партизаны, и нарисовал членов расстрельной команды в сомбреро. Затем стало известно, что расстрельная команда состояла из мексиканских солдат в униформе, хотя она и была гораздо более поношенной (как мы можем это себе представить по фотографиям той эпохи), чем та, что изображена в итоговой версии картины. Внезапно я понял, что Мане стремился показать это событие так, как оно выглядело бы на фотографии. Он запечатлел то мгновение, когда из винтовок только что был произведен выстрел: из дул идет дым, и один из тех осужденных, которых расстреливают одновременно с Максимилианом, изображен смертельно раненным, непосредственно в то мгновение, когда он падает на землю. В тот исторический момент фотография еще не была способна запечатлевать события, происходящие столь быстро: камеру Leica создали лишь в следующем столетии. Пленка была слишком малочувствительной, выдержка – слишком длинной. Но некоторые из типичных для фотографии черт уже проявляются в том, как построена композиция картины Мане.
Клемент Гринберг в своем эссе 1954 года «Абстракция, изобразительность и так далее», которое представляет собой ряд блестящих заметок, посвященных истории модернизма в понимании критика, писал:
От Джотто до Курбе главной задачей живописца было создание иллюзии трехмерного пространства. Эта иллюзия понималась как сцена, на которой происходит некая визуальная ситуация, а поверхность картины служила своего рода окном, через которое зритель смотрел на эту сцену. Но Мане начал выдвигать декорации на первый план, а те, кто пришел после него, ‹…› выдвигали их еще ближе, пока они не совпали с окном, тем самым заполнив его и заслонив собою сцену. Всё, с чем сегодня может работать живописец, – это, если можно так выразиться, практически непроницаемое оконное стекло.
Никто другой, насколько мне известно, не описывал в таких терминах переход от традиционного изображения к модернистской репрезентации, и никто другой не приписывал Мане того, что он начал модернистскую программу именно таким образом, но я считаю подход Гринберга весьма способствующим прояснению сути происходивших изменений, как бы сильно он ни отличался в остальном от моего собственного. Для меня главный вопрос состоит в том, чтобы найти объяснение этому эпохальному переопределению живописного пространства, столь быстро осуществленному Эдуаром Мане, и я хотел бы предположить, что оно заключено в появлении фотографии, признанной большинством как действительно революционное изобретение, повлиявшее на историческое изменение технологии изображения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: