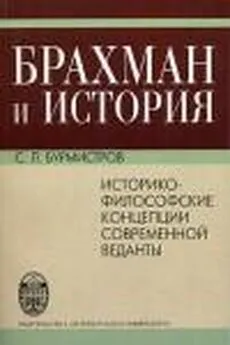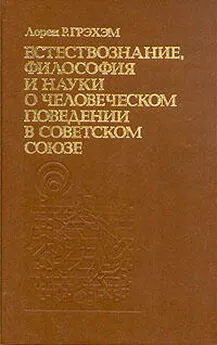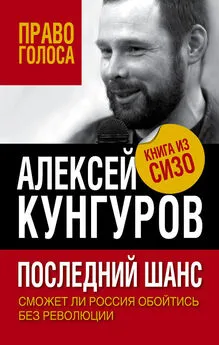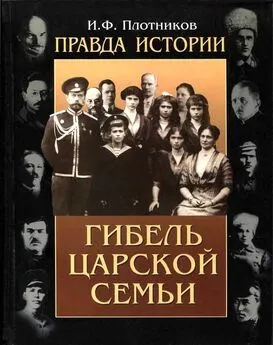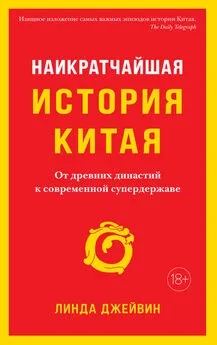Лорен Грэхэм - Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России
- Название:Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Манн Иванов Фербер
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91657-903-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лорен Грэхэм - Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России краткое содержание
Автор, Лорен Грэхэм – известный исследователь советской науки, профессор MIT, преподаватель Гарварда, обладатель научных наград и автор книг по истории науки. Он был участником одной из первых программ по обмену учеными между США и СССР (1960 г.) и с тех пор провел множество официальных и неофициальных бесед с русскими учеными, студентами, предпринимателями.
Книга будет интересна предпринимателям, сотрудникам инновационных и ИТ-компаний, а также всем, кому небезразличны история и будущее нашей страны, в том числе государственным деятелям.
На русском языке публикуется впервые.
Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тем не менее, взяв за отправную точку 1820-е годы, когда производство оружия в США и России находилось примерно на одном уровне, мы увидим, что за последующие 30 лет Россия откатилась далеко назад. В период с 1830-х по 1850-е годы американские производители не только воплотили идею производства оружия с взаимозаменяемыми деталями в жизнь, они наладили систему его производства {17}. Россия же упустила этот этап. Постепенный спад в производстве вооружений в Российской империи какое-то время был незаметен, войны 1820–1830-х годов, в которых участвовала Россия, велись против турок и кавказских горцев, чье вооружение серьезно уступало российскому. Военное отставание России стало очевидным в середине XIX века, когда на своей территории в Крыму российская армия пыталась противостоять британским и французским войскам, вооружение которых было гораздо лучше.
В Крымской кампании вооружение русской пехоты в основном состояло из гладкоствольных ружей, многие из которых были произведены в Туле. Часть этих ружей были еще кремневыми, поскольку программа перехода армии на капсюльные ружья [3], запущенная только в 1845 году, еще не завершилась. К тому же многие из этих ружей пребывали в весьма плачевном состоянии, а их детали в большинстве своем заменить в полевых условиях было невозможно. В сражениях при Альме и Инкермане осенью 1854 года русские войска сражались против французских и британских солдат, вооруженных нарезными ружьями с пулями Минье [4], летальный эффект от применения которых был примерно в три раза выше, чем от русских ружей. Русский офицер так описывал свой страх перед новым оружием: «Увидев в битве при Инкермане, как целые полки стремительно сокращались под их ружьями, теряя четверть своего состава… я был убежден, что они просто уничтожат нас, как только дело дойдет до сражения на открытой местности» {18}.
Чем объяснить резкое снижение качества производимого стрелкового оружия в течение всего лишь нескольких десятилетий? Возможны несколько вариантов. Как предположил историк техники Э. Бэттисон, вероятно, обман императора с взаимозаменяемыми деталями в 1826 году «ограничил возможности дальнейшей модернизации в стране с таким автократичным стилем управления. Если однажды монарх заявил о достигнутом успехе, нет смысла пытаться добиваться дальнейшего прогресса» {19}. Еще одно объяснение заключается в том, что российские дипломаты за рубежом вовремя не доложили о прогрессе в области производства стрелкового вооружения в других странах. Оба этих ответа можно принять в качестве частичного объяснения, но при более пристальном изучении исторических документов на свет выплывает еще один фактор, который, вероятно, и играл важнейшую роль. В ведущих странах социальные и экономические условия поощряли и поддерживали технологическое развитие, в то время как в России социально-экономическая среда фактически препятствовала такому развитию.
Без социального и экономического контекста, который независимо стимулировал бы внедрение и развитие инноваций, модернизация технологий в России была возможна только в те моменты, когда царское правительство неожиданно замечало провалы, приказывало провести реформы, приглашало в страну западных специалистов и импортировало оборудование. Именно такие «спасательные мероприятия» были проведены в 1817 году, когда в Тулу привезли Джона Джонса, и именно это произошло после Крымской войны, когда русские вновь обратились к загранице за помощью в области модернизации производства стрелкового вооружения. На этот раз – к американским ружьям, произведенным по принципу взаимозаменяемых деталей. Российские военные технологии, как и все остальные технологии в России, а позднее и в Советском Союзе, также развивались скачкообразно.
Довольно легко заметить, что в том, что тульские арсеналы не смогли угнаться за динамикой развития военной отрасли на Западе, важную роль сыграли социальные и культурные факторы. Но для большей убедительности гипотезе требуются доказательства. Имеются ли у нас независимые доказательства влияния социальных факторов на инновации в области производства вооружения в первой половине XIX века?
Сравнение с тем, что происходило в тот же период на американских государственных заводах по производству оружия в Харперс-Ферри и в Спрингфилде, проливает свет на этот вопрос. Очень полезна здесь книга Меррита Ро Смита о заводе в Харперс-Ферри {20}. Тула отстала от ведущих западных производителей высококачественного стрелкового вооружения по тем же причинам, по крайней мере некоторым из них, по которым завод в Харперс-Ферри тогда отставал от завода в Спрингфилде.
Из тщательного сравнения арсеналов в Харперс-Ферри и Спрингфилде Смит делает следующий вывод: «Завод в Харперс-Ферри оставался хронически больным местом в правительственной программе по развитию арсеналов. Консервативно настроенные и часто строптивые, гражданский менеджмент и рабочие кадры очень неохотно подстраивались под реалии индустриальной цивилизации. Ситуация на заводе в Спрингфилде являла, наоборот, разительный контраст. И управляющее звено, и технические специалисты, казалось, воспринимали новые технологии без малейших колебаний или беспокойства, свойственных их конкурентам из Вирджинии» {21}.
Далее, продолжает Смит, руководство в Спрингфилде обладало «широким перспективным видением», в то время как подход в Харперс-Ферри был «близоруким в отношении качества, ограниченным по объему, статичным и местечковым по своим процессам» {22}. Как результат, завод в Харперс-Ферри отставал в части инноваций, а Спрингфилд и долина Ривер-Вэлли стали местом зарождения новой системы производства, которая затем из военной отрасли распространится на все остальные промышленные отрасли США.
Смит обнаружил, что корень этой разницы был в отношении к модернизации в условиях различающейся социальной среды в Харперс-Ферри и Спрингфилде. Харперс-Ферри представлял собой маленький южный городок в сельской местности, где доиндустриальная идеология, цеховые традиции и социальная иерархия, на которую оказало большое влияние рабство, ограничивали развитие современных методов производства. Городок Харперс-Ферри управлялся несколькими семьями из числа местной элиты, которые с подозрением относились к любым социальным переменам. Эти привилегированные семьи могли дать образование своим детям, но для детей из остальных семей эти возможности были крайне ограниченными. С 1822 по 1837 год в Харперс-Ферри действовала ланкастерская школа [5], затем ее закрыли за отсутствием общественной поддержки.
Институт рабства оказал влияние на характер социальных отношений на заводе в Харперс-Ферри, несмотря на то что труд рабов на заводе использовался в минимальной степени. Как пишет Смит, «наличие рабов повышало социальный статус в обществе, и это заставляло владельцев оружейного завода рьяно защищать свои права. Любые перемены в организационном или техническом плане, которые даже в малой степени угрожали снижению их статуса, резко отвергались. Например, в ходе забастовки в 1842 году наиболее часто звучали обвинения в адрес артиллерийско-технического управления завода в подавлении свобод рабочих и превращении их в “рабов машин”. В патриархальном обществе южного городка понятия “свобода” и “рабство” играли важную роль».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: