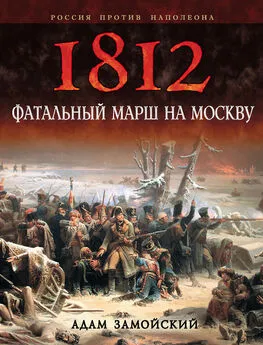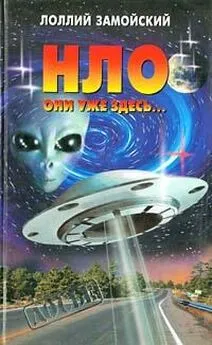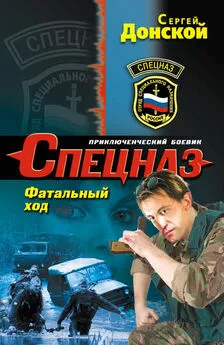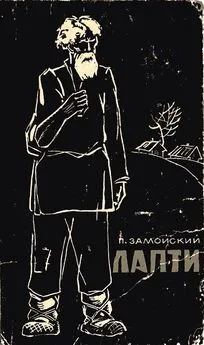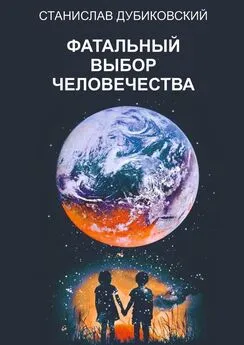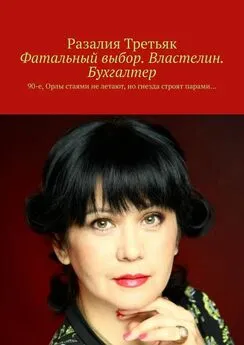Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву
- Название:1812. Фатальный марш на Москву
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Эксмо»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-59881-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву краткое содержание
Все это цитаты из иностранных периодических изданий, по достоинству оценивших предлагаемую ныне вниманию российского читателя работу А. Замойского «1812. Фатальный марш на Москву».
На суд отечественного читателя предлагается перевод знаменитой и переизданной множество раз книги, ставшей бестселлером научной исторической литературы. Известный американский военный историк, Адам Замойский сумел, используя массу уникального и зачастую малоизвестного материала на французском, немецком, польском, русском и итальянском языках, создать грандиозное, объективное и исторически достоверное повествование о памятной войне 1812 года, позволяя взглянуть на казалось бы давно известные факты истории совершенно с иной стороны и ощутить весь трагизм и глубину человеческих страданий, которыми сопровождается любая война и которые достигли, казалось бы, немыслимых пределов в ходе той кампании, отдаленной от нас уже двумя столетиями.
Добавить, пожалуй, нечего, кроме разве что одного: любой, кто не читал этой книги, знает о французском вторжении в Россию мало – ничтожно мало. Посему она, несомненно, будет интересна любому читателю – как специалисту, так и новичку в теме.
1812. Фатальный марш на Москву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ермолов требовал отправки Левенштерна в Сибирь, но Платов предложил более реалистичный и коварный прием. «Вот как надо поступить с сим делом, брат, – сказал он Ермолову. – Пусть ему прикажут идти на разведку французских позиций, а пошлют в моем направлении. А уж я позабочусь, чтоб немца отделили от всех прочих и дам ему провожатых, кои покажут ему французов, да так, что он более их никогда не увидит» {384}.
Никакого предательства на деле не было. Как выяснилось позднее, Мюрат получил данные из перехваченного письма одного штабного офицера-поляка [92]к матери, имение которой находилось на пути наступления, и сын просто просил ее уехать оттуда. Но предупреждение против немцев росло и принимало гипертрофированные формы, а положение Барклая не давало ему возможности как-то противодействовать этому. Он распорядился отправить Левенштерна под охраной в Москву и произвел очистку штаба от прочих иностранцев, особенно от офицеров польского происхождения. Брат Левенштерна, Эдуард, служивший в кавалерийском корпусе Палена [93], клокотал от ярости. «Армии и народу с самого начала хотелось верить, будто Россию продали, – писал он. – Надо лишь дать людям ухватиться за сию мысль, как дают игрушку капризному ребенку, чтобы тот только перестал плакать» {385}.
Предпринятые шаги не снизили давления на Барклая, который, не собираясь продолжать бегство, отчаянным образом искал выгодных позиций, намереваясь наконец-то дать на них битву противнику. Если верить Клаузевицу, Толь присмотрел подходящую местность в районе Усвятья, но Багратион раскритиковал ее. Когда Толь попытался обосновать свой выбор и привести в качестве аргумента достоинства позиции, Багратион «крайне возбудился», обвинил офицера в высокомерии и нарушении субординации, а также пригрозил разжаловать его в рядовые. Не став заступаться за генерал-квартирмейстера своей армии, Барклай согласился продолжить отступление. Он нашел другую пригодную позицию на подходе к Дорогобужу, но Багратион высказался и против нее, вследствие чего разыгралась очередная ненужная ссора {386}.
Ермолов подговаривал Багратиона написать царю и потребовать отстранения Барклая от командования, и пусть Багратион не осмелился на подобный шаг прямо, он не ленился писать к Аракчееву, Ростопчину, Чичагову и другим. Командующий 2-й армией называл Барклая «дураком» и «трусом», заявлял в раздражении, будто стыдиться носить одну с ним форму, а также постоянно похвалялся, что, получи он главное командование, «стер бы в порошок» Наполеона. Он даже грозился вывести свою армию из состава соединенного войска и делать дело самостоятельно. Источником неурядиц служил вовсе не один лишь этот импульсивный человек. Генералы и влиятельные офицеры всюду в армии без устали строчили письма к друзьям с положением, настаивая на удалении Барклая, а в некоторых случаях – даже на казни его как предателя {387}.
Подобные настроения и действия оказывали крайне плачевное воздействие на армию и снижали авторитет Барклая. «Старшие офицеры обвиняли [Барклая] в нерешительности, младшие – в трусости, тогда как солдаты ворчали, что-де Бонапарт купил немцев, и теперь те продают Россию», – описывал ситуацию один из адъютантов Ермолова. «В армии стали сетовать, что-де главнокомандующий, немец, не посещает религиозных служб, не дает врагу сражения, и находились те, кто называл добросовестно относящегося к делу и храброго Барклая чудовищем», – вспоминал капитан Николай Суханин. Нижние чины, переиначив «нерусскую» фамилию главнокомандующего, стали за глаза именовать его «болтай да и только» – человеком, который только говорит, но ничего не делает. Проезжая мимо марширующих колонн, несчастный генерал нет-нет да и слышал несшееся из солдатских рядов: «Гляди, гляди, вон изменник едет!» {388}
Если бы не глубокая пассивность русских призывников и жесткие рамки спаивавшей их железной дисциплины, армия очутилась бы в большой беде. Даже когда такие люди чувствовали, что начальство подводит их, наличие заговора «предателей-иностранцев» где-то наверху не позволяло им перестать верить в основы полковой структуры и в непосредственных командиров. Потому опасность мятежа отсутствовала. Однако дезертирство распространялось. Вместе с тем дела принимали весьма опасный оборот: согласно мнению Павла Граббе, случись тогда русским дать врагу битву, все и каждый подозревали бы измену при любой мельчайшей неудаче, вследствие чего не стали бы подчиняться приказам, ясного смысла которых не видели, в каковом случае началась бы полная неразбериха {389}.
И все же Барклай надеялся на сражение. Он облюбовал сильную позицию за Вязьмой и 26 августа, пока личный состав занимался сооружением земляных укреплений, писал царю, что «пришел момент начаться нашему наступлению». Главнокомандующему требовались двое суток для подготовки позиции и приведения в порядок армии, но он не получил их, поскольку арьергард Коновницына не сумел сдержать напиравших французов, вследствие чего русским, по описанию Клаузевица, вновь пришлось отступать, «словно утратившим опору и неспособным остановиться». На этот раз, однако, Багратион одобрил выбранные Барклаем позиции, а посему совершенно оскорбился приказом продолжить отступление. «Я говорю: “вперед!”, а он – “назад!” – писал генерал Чичагову на следующий день. – Таким манером мы скоро очутимся в Москве!» Но Барклай твердо решил помериться силами с врагом, какими бы последствиями то состязание ни грозило, и приказал начать окапываться у Царева Займища, всего в 160 километрах – в трех или четырех дневных переходах – от Москвы {390}.
Коль скоро линия фронта пролегала на столь скромном расстоянии от древней столицы, все в стане русских чувствовали себя крайне неуютно. Известия о падении Смоленска произвели сокрушительный эффект всюду по стране, поспособствовав повсеместному распространению паники. Многим казалось, что уже все потеряно. Люди, порой даже находясь вдалеке от театра военных действий, кидались паковать пожитки и ударяться в бега. Курск наводнили беженцы из Калуги. В Харькове один купец обнаружил вдруг, что никто из обычных клиентов не хочет отпускать товары в рассрочку. Даже в отдаленных городах одни требовали возврата долгов, другие продавали имущество по бросовым ценам и обращались в бегство {391}.
До поры до времени в самой Москве царило спокойствие – она все еще переживала всплеск патриотических чувств из-за визита Александра. По мнению генерал-губернатора, графа Ростопчина, подобное состояние надлежало сохранять и поддерживать. Он являл собою приятной наружности господина лет пятидесяти с великолепными манерами, широким кругозором и щегольским остроумием. В уборной у себя он установил бронзовый бюст Наполеона, соответственным образом приспособленный для отправления самых приземленных потребностей. Граф зарекомендовал себя как отличный рассказчик и произвел впечатление на мадам де Сталь, которая посетила Москву проездом в компании поэта Августа Вильгельма Шлегеля в первой половине августа и которую он пригласил на обед, а кроме того показал ей город. Однако при всем либеральном французском образовании Ростопчин был ксенофобом и реакционером. На протяжении лет в мозгу его сложилась твердая вера во вселенский заговор франкмасонов, якобинцев, демократов, мартинистов и прочих вольнодумцев, нацелившихся низвергнуть Россию. Он пребывал в убеждении, что вторжение французов, послужив подстрекательством к народному восстанию, как раз и станет катализатором такого рода процессов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: