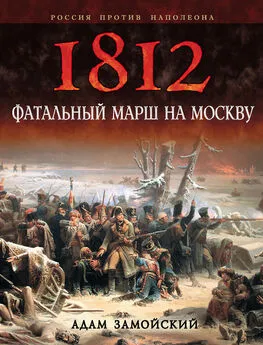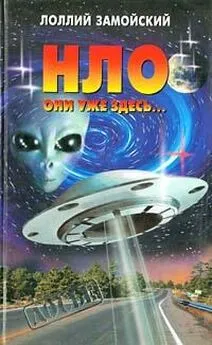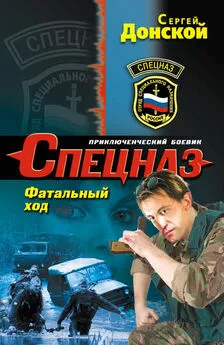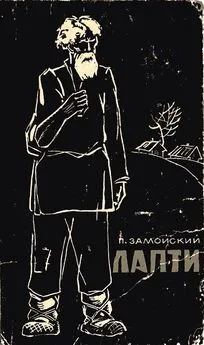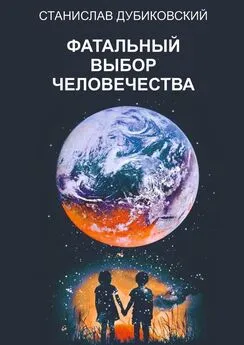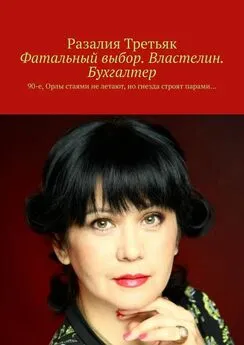Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву
- Название:1812. Фатальный марш на Москву
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Эксмо»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-59881-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву краткое содержание
Все это цитаты из иностранных периодических изданий, по достоинству оценивших предлагаемую ныне вниманию российского читателя работу А. Замойского «1812. Фатальный марш на Москву».
На суд отечественного читателя предлагается перевод знаменитой и переизданной множество раз книги, ставшей бестселлером научной исторической литературы. Известный американский военный историк, Адам Замойский сумел, используя массу уникального и зачастую малоизвестного материала на французском, немецком, польском, русском и итальянском языках, создать грандиозное, объективное и исторически достоверное повествование о памятной войне 1812 года, позволяя взглянуть на казалось бы давно известные факты истории совершенно с иной стороны и ощутить весь трагизм и глубину человеческих страданий, которыми сопровождается любая война и которые достигли, казалось бы, немыслимых пределов в ходе той кампании, отдаленной от нас уже двумя столетиями.
Добавить, пожалуй, нечего, кроме разве что одного: любой, кто не читал этой книги, знает о французском вторжении в Россию мало – ничтожно мало. Посему она, несомненно, будет интересна любому читателю – как специалисту, так и новичку в теме.
1812. Фатальный марш на Москву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда вечером 20 августа после получения назначения Кутузов вышел из дворца Александра на Каменном острове, он велел отвезти себя прямо в собор Казанской Божьей матери. Там, сняв с себя форменный сюртук со всеми наградами, грузный генерал тяжело опустился на колени и начал молиться со слезами, бежавшими у него по лицу. На следующий день он, на сей раз в обществе жены, отправился на богомолье в церковь св. Владимира. Два дня спустя, 23 августа, Кутузов отбыл на театр военных действий. Карета едва двигалась из-за толп людей, пришедших проводить генерала и пожелать ему удачи. Он вновь заехал в собор, чтобы присутствовать на религиозной службе, и отстоял ее на коленях. Потом ему подарили небольшой медальон с изображением Казанской Божьей матери, окропленный святой водой. «Молитесь за меня, ибо меня посылают совершить великие деяния», – будто бы произнес генерал при выходе из храма.
На почтовой станции по пути Кутузов встретил генерала Беннигсена, следовавшего в противоположном направлении. Александр настоял на назначении Кутузовым Беннигсена начальником штаба в качестве меры безопасности на случай возможного предательства главнокомандующего и из-за невысокого мнения по поводу его компетентности. Беннигсен совсем не обрадовался новости, он-то ехал в Санкт-Петербург в надежде уговорить Александра доверить верховное командование ему. «Мне было неприятно служить под началом другого генерала после того, как я командовал армиями против Наполеона и лучших его маршалов», – писал он позднее. Но когда Кутузов передал Беннигсену письмо Александра с просьбой принять должность, отказаться тот не мог.
Барклай тоже никак не обрадовался известию о назначении Кутузова и написал Александру, говоря, что готов служить при новом главнокомандующем, однако просит освободить себя от должности военного министра, поскольку она ставит его в ненормальное и трудное положение. Через несколько дней после приезда Кутузова в ставку Барклай обращался к государю снова, желая на сей раз быть снятым и с командования, но безуспешно {407}.
Прибытие Кутузова в русский лагерь при Царевом Займище солдаты встречали радостью и ликованием. «День выдался облачный, но сердца наши наполнились светом», – отмечал A. A. Щербинин. «Все, кто мог, полетели навстречу почтенному вождю, принять от него надежду на спасение России», – выражал общее мнение Радожицкий. Молодые офицеры, для которых он не скупился на добрые слова и отеческую заботу, боготворили Кутузова. Солдаты в строю верили в старика, которого называли «батюшкой». Они моментально взбодрились и выполняли даже самую скучную рутину в скорейшем темпе, точно вот-вот уже готовились идти в бой. В тот вечер у лагерных костров впервые за многие недели не смолкало пение. Старые солдаты вспоминали о деяниях Кутузова в турецких войнах и уверяли молодых товарищей, что теперь все будет по-иному {408}.
Уверенность эту разделяли далеко не все старшие офицеры, которые испытывали серьезные сомнения по поводу талантов Кутузова и его пригодности к выполнению порученного задания в его весьма почтенном возрасте – в шестьдесят шесть лет. Данное обстоятельство, безусловно, усугубляло природную лень. «Для Кутузова написать десять слов было труднее, чем для другого покрыть письменами сотню страниц, – отмечал надворный советник Сергей Иванович Маевский, генерал-аудитор 2-й Западной армии, исполнявший с 31 августа обязанности ее дежурного генерала. – Застарелая подагра, возраст и отсутствие привычки к перу выступали в нем врагами последнего». Как высказался в письме Ростопчину Багратион, назначение вместо Барклая «гусака» Кутузова было подобно замене «дьякона на попа». Однако обстановка ухудшилась так, что радость приносили любые перемены. «Как считали многие русские, даже и не приписывавшие иностранцам предательства, лары и пенаты их гневались за использование чужаков, отчего и проистекали несчастья, – высказывался Клаузевиц, добавляя: – Злого гения иностранцев изгонял настоящий русский» {409}.
Особой отличительной черной Кутузова являлось лукавство. Он сумел стяжать себе репутацию человека необычного и убедить многих, будто причуды и странности его есть признаки гениальности. Среди чудачеств было, например, совершенное презрение к протоколу. Генерал одевался небрежно, носил просторный зеленый сюртук и белую фуражку, а не приличествовавшее званию обмундирование. Он обращался к генералам и субалтернам по их прозвищам и бывало не чуждался популистских жестов, позволяя себе, в частности, сквернословить. Но при этом всегда ходил при всех наградах и проявлял склонность к высокомерию. И пусть писатели и киношники неизменно изображают Кутузова этаким истинным сыном земли русской, простоватым добряком, ему были присущи тонкий вкус аристократа и изысканность манер, а приказы он отдавал на безупречном французском.
К сожалению, наплевательское отношение к протоколу распространялось и на способ командования. Кутузов не желал пользоваться соответствующими каналами, а передавал приказы через кого попало. Его отличала скрытность и недоверчивость, он старался, когда возможно, не давать письменных указаний. Случалось, он приказывал какой-нибудь части выполнить некую задачу, не потрудившись поставить в известность командира дивизии или корпуса, к которым та принадлежала, в результате перед вступлением в бой генералы нередко обнаруживали отсутствие под рукой некоторой составляющей своего формирования. У главнокомандующего наличествовала скверная привычка соглашаться с какими-то предложениями без обдумывания их совместимости с шагами, предпринятыми им ранее. Кутузов часто менял мнение, но не всегда информировал о смене планов людей, которых те касались.
Отчасти это могло проистекать из-за дряхлости полководца – именно такового мнения держался Клаузевиц. Однако в известной мере неразбериха обусловливалась тенденцией Беннигсена перешагивать через голову главнокомандующего, и усугублялось ближайшим окружением Кутузова, в каковое входил его импульсивный зять, князь Николай Кудашев, а также назойливо-вездесущий полковник Кайсаров, который, по словам Барклая, «считал, будто, являясь как наперсником, так и кляузником, безусловно, имеет право командовать войсками». Все трое господ имели привычку отдавать приказы от имени Кутузова, порой забыв уведомить о том его самого {410}.
«Люди в армии пытались как-то определиться с тем, кто же есть то лицо, коему на деле принадлежит командование, – писал Барклай. – Ибо, как было очевидно всем, князь Кутузов являлся лишь неким символом, под прикрытием коего действовали его компаньоны. Подобное состояние дел порождало партии, а партии – интриги» {411}. Подобная обстановка в особенности раздражала Барклая, положившего так много сил на налаживание правильных процедур руководства войсками. Но он продолжал оставаться командующим 1-й Западной армией, хотя и находил сложившееся положение все более нетерпимым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: