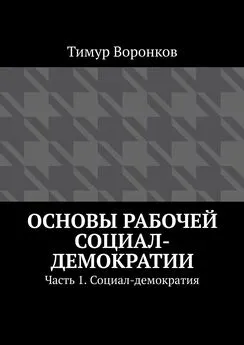Вильфредо Парето - Трансформация демократии (сборник)
- Название:Трансформация демократии (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский Дом «Территория будущего»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91129-062-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вильфредо Парето - Трансформация демократии (сборник) краткое содержание
В своей работе «Трансформация демократии» выдающийся итальянский политический социолог Вильфредо Парето (1848–1923) показывает, как происходит эрозия власти центрального правительства и почему демократия может превращаться в плутократию, в которой заинтересованные группы используют правительство в качестве инструмента для получения собственной выгоды. В книгу также включен ряд поздних публицистических статей Парето.
Трансформация демократии (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Затем он справляется с этой трудностью, выводя опыт за пределы простого эмпиризма и обращаясь к общим закономерностям; опираясь на них, предсказывает подготовленный демагогическим режимом конец Римской республики (LVII). Сам прием правилен, но применен он не очень удачно. Многие закономерности, предполагаемые Полибием, неточны и отчасти вымышлены, но иначе и не могло быть при тогдашнем несовершенном состоянии социальных наук; впрочем, они, к сожалению, с тех пор ушли не очень далеко.
Это распространенный случай. Политические деятели, часто сами того не сознавая, бывают движимы мотивами, которые не могут точно выразить.
Аристотель также использовал эмпиризм и общие законы, но последние не очень соответствовали опыту, часто были воображаемыми, т. е. мало что прибавляли к его эмпирическим выводам.
Как правило, эмпиризм имеет под собой твердое фактическое обоснование, но его слабое место – это выводы, поскольку в своих выводах он молчаливо допускает, что будущее должно быть похожим на прошлое, что справедливо лишь отчасти, а иногда неверно и сводится во многих случаях к простому указанию на возможность. Общие законы (единообразие) часто недостаточно подкрепляются фактами, поскольку необходимое количество фактов трудно собрать или к ним примешиваются метафизические, богословские (в общем, вымышленные) аргументы, но этот способ делать заключения более основателен, ибо обычно (хотя и не всегда) он строго логичен.
Отсюда вытекает, что в поисках более высокой степени установления вероятности эмпиризм постепенно уступает место методам, основанным на научных законах, по мере того как они создают для себя более прочный фундамент. Так происходило и происходит во всех естественных науках, но не в социальных, поскольку представители последних думают не о получении экспериментально подтверждаемых выводов, а о том, чтобы навязывать другим свои мнения, потакать их чувствам и идти навстречу их интересам.
Обратимся к нескольким примерам прогнозирования.
Рассмотрение экономического равновесия, основанное на опытной науке и синтезе, создает довольно прочную почву под ногами.
Перед войной существовало определенное равновесие, предполагавшее известную продолжительность рабочего дня и уровень заработной платы (рассчитанный в товарах). После войны была поставлена цель добиться нового равновесия на основе сокращенного рабочего дня и более высокой реальной заработной платы; другими словами, более выгодного для трудящихся. Достижима ли эта цель?
Следует заметить, что здесь речь идет о действительном, а не формальном равновесии. Например, те, кто хочет, чтобы заработная плата определялась на основании стоимости потребительских товаров и эта стоимость оставалась неизменной, желают, собственно, сохранить существующий дисбаланс, который отчасти был вызван разладом на потребительском рынке. Рост цен происходит не только вследствие повышения себестоимости, но и в силу увеличения спроса, к которому приводит рост заработной платы и окладов. При равновесном состоянии цена устанавливается на уровне соответствия спроса и предложения. Нельзя учитывать только первый фактор и забывать о втором.
Если утверждать, что рабочие никогда не согласятся вернуться к экономическому положению, в котором они находились до войны, это значит, что невозможно будет вернуться и к равновесию, соответствовавшему этому положению. Создастся, таким образом, новое положение. Остается выяснить, сохранится оно или нет; этот вопрос важнее всех прочих этических и метафизических соображений.
Война расточила множество богатств, но расточение продолжается и после войны в форме расходов, затрачиваемых на бесполезные для производства цели. Очевидно, что при новом равновесном положении это расточительство должно быть каким-то образом покрыто, это может быть сделано только за счет труда и потребления – как прямого, так и непрямого, т. е. за счет снижения капитализации.
Если бы общество было однородным, тяготы ложились бы на всех, но в расслоенном обществе они ложатся на одну его часть, а другая его часть получает выгоду, при условии что первая часть обеспечит не только возмещение истраченных богатств, но и благосостояние второй. Это возможно и действительно бывало в случае, если от многого отделяется малое; и невозможно, если из малого хотят получить много. Так римские триумвиры платили своим солдатам, так поступали многочисленные монархи, главы правительств, таким способом русский большевизм с успехом содержит свою армию. Но это невозможно, если огромную сумму, необходимую для увеличения потребления большей части населения, хотят получить из сравнительно гораздо меньшей суммы богатств, принадлежащих имущим и зажиточным классам. Поэтому с большой вероятностью можно утверждать, что усилия наших правительств, подстрекаемых общественно-политическими нуждами, останутся безрезультатными.
До сих пор факты полностью подтверждали этот прогноз [150].
Можно привести еще один пример, весьма вероятный. Вся история человечества показывает, что там, где не срабатывает сила, помогают хитрость и обман. Правительствам приходится лавировать между двумя крайностями. С одной стороны, они не могут удовлетворить все требования населения и выполнить свои обещания, сделанные ради продолжения войны; с другой стороны, им не хватает сил, чтобы заставить население отказаться от этих притязаний и помешать ему возмутиться против того, чтобы «посул был длиннее дел» [151]. Остается лишь делать вид, что ты даешь то, чего на самом деле не можешь дать; прибегать к паллиативам, которые снимают внешние симптомы, но не лечат саму болезнь, или произносить пустые речи, скрывающие правду, которую не могут или не желают высказать.
Меры, к которым в таких случаях прибегают, не новы, их можно легко предугадать, опираясь на знание истории. Это, в основном, порча монеты, некогда физическая, а сегодня осуществляемая с помощью бумажных денег; введение фиксированных цен, практиковавшееся со времен Диоклетиана и гораздо раньше, и вплоть до наших дней, всегда или почти всегда неэффективное, всегда желанное для населения и охотно применяемое правительствами во время волнений; законы против роскоши, ведущие к нулевому результату; в Средние века гонения на ростовщиков, в наши дни – на спекулянтов, всякого рода преследования капиталистов.
15 января 1920 г. мы уже отмечали точность прогнозов относительно обесценивания денег, прибегая к которому государства делали вид, что выплачивают долги, хотя платили намного меньше. События, происходившие с тех пор по сей день, полностью подтвердили эти выводы.
Можно хотя бы приблизительно судить о степени обесценения валюты, приравнивая ее стоимость к золоту. Впрочем, не следует забывать, что сегодня золото дешевле, чем довоенное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
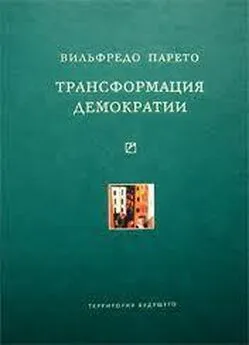

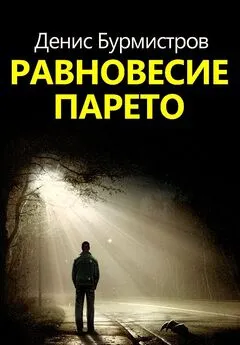
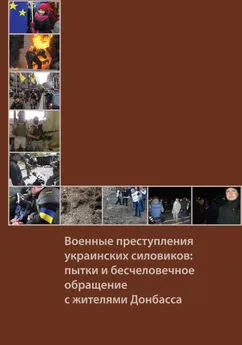
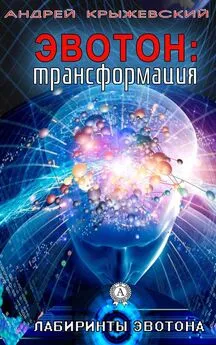

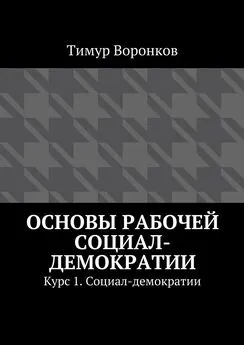

![Андрей Франц - Общество народной демократии. О свободе и демократии для русских. [СИ]](/books/1089891/andrej-franc-obchestvo-narodnoj-demokratii-o-svobo.webp)