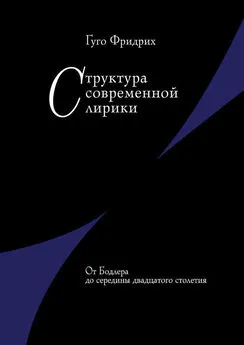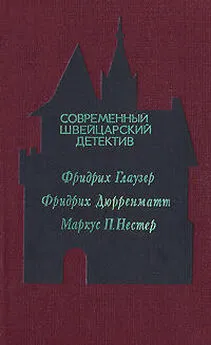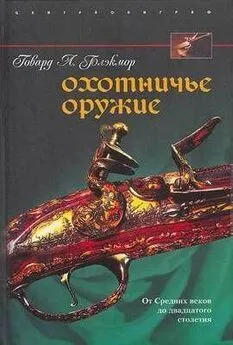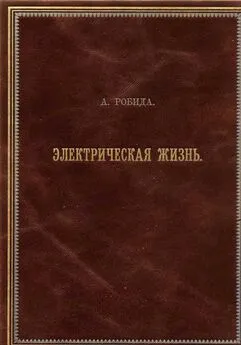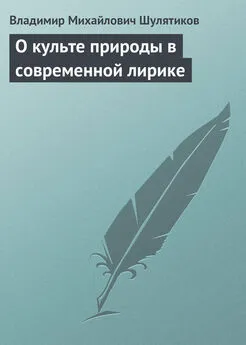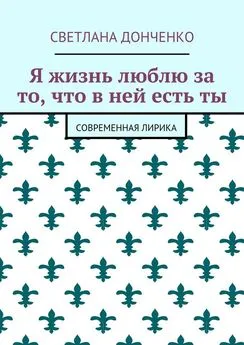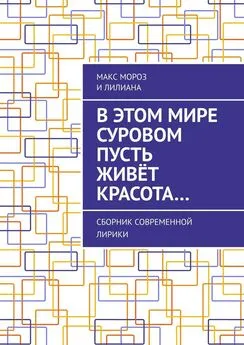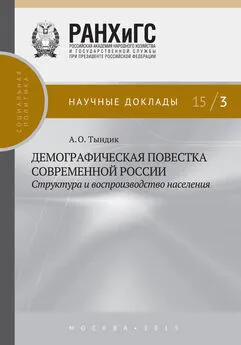Гуго Фридрих - Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия
- Название:Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянских культур
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-043
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гуго Фридрих - Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия краткое содержание
Профессор романской филологии Гуго Фридрих (1904—1978) почти всю жизнь проработал во Фрайбургском университете. Его перу принадлежат выдающиеся труды («Классики французского романа», «Монтень», «Структура современной лирики», «Эпохи итальянской лирики» и др.). «Структура современной лирики» наиболее интересна – автор прослеживает пути современной поэзии от Бодлера до середины XX столетия. Ситуация лирики, с середины XIX века отрекшейся от позитивизма, чувств, эмоций, любви, пейзажей и прочего классического ассортимента, оказалась поистине трагичной. Неприятие любой лирической и философской конвенции, все нарастающая алиенация артистов от общества с его проблемами, от реальности – людей, бытия, вещественности, от пространства и времени, от своих читателей, от самих себя, поиски «чистого» абсолюта, прорыв к магии слова – все это радикально развернуло поэзию на 180 градусов, привело к небывалой «условной» выразительности. В терминологии Г. Фридриха лирика Рембо, Малларме, Элиота, Сент-Джон Перса, Унгаретти, Лорки, Алей-хандре, Гильена обретает смысл и обаяние высокого духовного совершенства. По Фридриху, современная блистательная поэтическая плеяда художественно и философски, вместе с живописью и музыкой, обретает себя в недостижимой высоте.
В приложении читатель найдет некоторые трудные стихи на языке оригинала и в переводах Евгения Головина, которые дают представление о том, как сочетаются слова без общепринятого согласования, как функционирует новый язык нового «дикта». Следует отметить необычную композицию заключительного эссе Головина: трудные философские и филологические понятия новой лирики рассматриваются им в изящных фрагментах, отличающихся глубиной и проникновенностью.
Перевод: Евгений Головин
Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потенциально богатой сущностью молчания объясняется, вероятно, частая склонность к весьма короткому стихотворению. Отсюда лаконизм, «предельно приглушенное говорение» (Карл Кролов), стихотворения в две-три строки. Некоторые из этих текстов знамениты. Хименес: «Не прикасайся к ней, ибо она роза» (роза, как и у Малларме, символизирует здесь неприкасаемость, недоступность поэтического совершенства). Унгаретти: «Между сорванным цветком и подаренным… невыразимое ничто». Эзра Паунд (стихотворение называется «На эскалаторе метро»): «Появление этих лиц в толпе; лепестки на влажной, черной ветке». Подобный лаконизм, длительная пауза, умолчание интенсифицируют лиризм произведения.
Особого наблюдения достойны названия, наименования современных лирических текстов. Как языковый момент, точнее отношение (или отсутствие отношения) к дальнейшим составляющим стихотворения, название может равным образом стать носителем «нового языка». Название традиционно определяет тему, объект, эмоцию, которые так или иначе интерпретируются и эксплицируются в тексте, и наоборот, развернутое в тексте собирается при повторном прочтении названия. Естественно, такая конвергенция есть и в современном стихотворении. Но весьма и весьма часто отношения между названием и текстом усложняются. Много вариантов здесь. К примеру, строка из центра стихотворения выбирается в качестве названия, хотя это может случиться с любой другой строкой. Встречаются названия, без помощи которых текст трудно понять («На эскалаторе метро»). Часто поэт совсем не заинтересован в читательском понимании, и тогда название никак не проясняет стихотворения («Дитя» Гильена). Такие несоответствия, когда название «не подходит» к содержанию, усиливают многозначность высказывания. У Хименеса многие названия даны в форме вопроса, а дважды вообще фигурирует одинокий вопросительный знак. У Готфрида Бенна стихотворение в три строфы начинается со слов: «Когда какое-то лицо…», причем это «когда» в протяженности текста никак не разрешается – вряд ли объяснением служит название «Тогда». Анормальная «техника названий» способствует ослаблению семантической когерентности и, безусловно, интенсификации необычного.
Функция неопределенности детерминанта
В современной лирике распространен стилистический прием, связанный с важной тенденцией отчуждения доверительного. Назовем его функцией неопределенности детерминанта. Имеется в виду следующее: например, стихотворение Бенна «Волна ночи» заканчивается строкой: «die weiße Perle rollt zurück ins Meer» [94] . При нормальном словоупотреблении надо спросить: какая жемчужина? Предыдущие строки ничего об этом не знают. В них нечто волнуется, кружится, слегка спровоцированное сущностями и вещами или, вернее, их магическими именами. Роль жемчужины аналогична. Она провоцирует точность обратного движения. Определенный артикль отнюдь не выражает фактической определенности субстантива. Он введен в качестве сонорного указателя абсолютного движения, направляющего и заключающего смутную, нерешительную динамику предыдущих строк. Неожиданное появление жемчужины, соединение определенного артикля с полной неизвестностью действует неопределенно и таинственно. «Eine weiße Perle…» [95] : такой поворот переместил бы стихотворение в иной климат.
При нормальном словоупотреблении определенный артикль обозначает известный или накануне представленный факт. Этому артиклю свойствен характер доверительности, указательности, и посему он подтверждает известное или только что сообщенное. Однако в современной поэзии этот детерминирующий посредник тотчас дезориентирует внимание вводом совершенно нового факта. Подобное встречаешь у лириков XIX века, особенно у Рембо, но тогда определенный артикль любили сочетать с личным местоимением или обстоятельством места и т. д. В XX веке этот детерминант изолировался и стал одним из стилистических индикаторов современной лирической поэзии. Например, в стихотворении Жюля Сюпервьея «L’Appel» [96] идет довольно фантастический процесс: «Дамы в черном… зеркало… мраморная скрипка…» Каждому субстантиву предпослан определенный артикль, и все происходит так, словно рассказывается о вещах обычных и давно знакомых. Этим приемом часто пользуется Эллиот, Сент-Джон Перс, Гильен. Подобное положение детерминанта, при одновременной неопределенности высказывания, создает анормальное языковое напряжение и вносит отчужденность в доверительно звучащее. Современная лирика, и без того любящая инкогерентность содержания, тем самым придает «новому» еще одно качество. Это «новое», обретая благодаря детерминанту видимость хорошо известного, повышает дезориентацию и становится еще более странным и загадочным.
Аполлон против Диониса
Современная лирика – дело холодное и бесстрастное. Таково и размышление о ней. Ее обсуждают с технической точки зрения. При этом отнюдь не забывают, что лирика есть завоевание пограничной полосы тайны, чудо и энергия. Но штудируют ее энергию как экспериментальный взрыв атомарных сил слова, и ее таинственный язык представляется результатом впервые испытанных химических соединений. Поэт становится авантюристом неисследованных языковых пространств. Однако он при этом вооружен измерительными приборами своих понятий, которые обеспечивают ему самоконтроль и предохраняют от банальных головокружений. Фасцинация современного стихотворения точно рассчитана. Его диссонансами, темнотой управляет Аполлон – ясное художественное сознание. Курс вдохновенной одержимости как свидетельство несомненной поэтичности упал еще в начале XIX века. Разумеется, не без исключений. Общественное мнение очень их ценит. Удивительным исключением явился один великолепно одаренный немецкий поэт XX века. Стихотворение ему «внушалось ночной бурей», «непреодолимо взрывалось в чувствах», так что «руки дрожали, и по телу проходили судороги». Об этом «смятении» он подробно сообщал княгиням, графиням, разным «дорогим и уважаемым господам», с бесчисленными «где-то» и «как-то». В результате единственный такой казус стали путать с поэзией вообще.
Почти все ведущие европейские лирики встречают вдохновение недоверчиво и стараются разделить возбуждение и энергию, персональное потрясение и духовную напряженность. «Поэзия – глубоко скептическое искусство, предполагающее чрезвычайную свободу по отношению к нашим собственным чувствам. Боги милостиво дарят нам один стих: это уже наше дело – прибавить второй к его старшему небесному брату. Здесь необходимо совместное усилие опыта и духа». Так писал Валери в заметках об «Адонисе» Лафонтена. «Вздохам и элементарным стонам» нечего делать в поэзии до того, как они получат «духовную структуру», сказал он по другому поводу. Гарсиа Лорка в лекции о Гонгора очень одобрительно отозвался о суждениях Валери и еще более их заострил. После резкой реакции на декларативно-патетическую лирику д’Аннунцио итальянские поэты также выбрали аналогичный путь и возвысили продуманное «обнаженное слово» (Унгаретти) над восторженной речью. В принципе это старые воззрения. Их частое появление в романских странах связано с латинской традицией. Однако настойчивость подобных утверждений после Бодлера и в новое время доказывает, что современная лирика все еще переживает процесс деромантизации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: