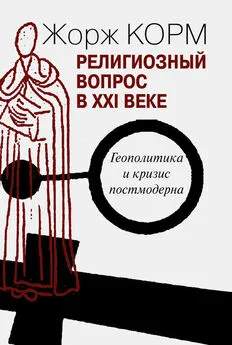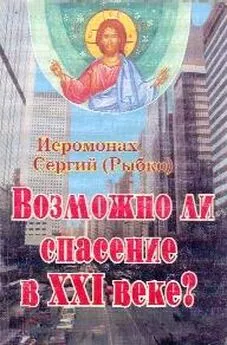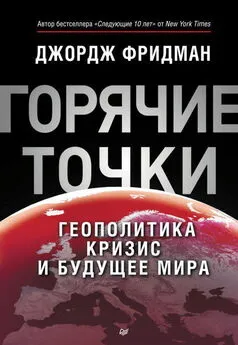Жорж Корм - Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна
- Название:Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИОИ»77f366e0-7f11-11e5-b0d0-0025905b9d92
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88230-291-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жорж Корм - Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна краткое содержание
Жорж Корм – философ, экономист, автор многих замечательных книг, посвященных истории Западной Европы и стран Ближнего Востока.
В этой книге он обращается к анализу подъёма религиозных настроений в последние десятилетия XX века и в начале века нынешнего. Именно они становятся сегодня доминирующим фактором мировой политики, одним из ключевых вопросов строительства современного общества и – самое главное – самой острой из существующих (наряду с проблемами окружающей среды) проблем человечества в целом и каждой страны, каждого общества в отдельности. Исламский терроризм, проблемы социальной и культурной интеграции, религиозная нетерпимость и, наконец, войны, основанные на религиозных противоречиях – всё это реальность сегодняшнего дня; и только попытавшись увидеть, понять сложнейшую ткань взаимосвязей – философских, исторических, политических – мы можем надеяться выйти из тупика, в которую зашла современная цивилизация. Ведь религия сегодня – это не только знамя борьбы, не только моральный ориентир – но и средство, активно используемое в интересах самых разных групп, инструмент давления, инструмент достижения целей, от религии порой слишком далёких.
Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Занятно отметить, что после исчезновения турецкого халифата в 1924 году европейские державы, и прежде всего Англия, начнут поиски нового халифа, который мог бы обладать авторитетом в мусульманском мире, что станет отправным моментом для нового соперничества двух арабских суверенов, которые претендовали на этот титул [106]. Франция, также занятая предприятиями на Востоке и в западном Средиземноморье, всегда мечтала о возрождении ислама и управлении им [107]. Можно вспомнить о Наполеоне Бонапарте, который прибыл в Египет, представив себя как друга, с симпатией относящегося к этой религии [108]. В сравнительно недавнее время, в конце XX века, США также работали над мобилизацией ислама, понадобившейся, чтобы создать противовес советской экспансии в Третьем мире, (и в результате внесли вклад в процесс радикализации, который в конечном счете приведет к терактам 11 сентября 2001 года). Эта инструментализация, которую мы описывали в других работах, долгое время была неизвестна крупным западным СМИ и никак не рассматривалась в академических исследованиях ислама. Саудовская Аравия и Пакистан как активные распространители мусульманского фундаментализма в Третьем мире находились тогда на переднем фронте борьбы с коммунизмом, а США не только соглашались с этим, но и всячески стимулировали их и воодушевляли. Лишь в самое последнее время завесу тайны начали приподнимать, особенно в англосаксонской прессе, которая заинтересовалась феноменом распространения ваххабизма при поддержке США [109].
Но панисламизм сохраняется и в наши дни, в том числе благодаря обильной, но однообразной литературе (её мы рассмотрим в пятой главе), издание которой прерывалось лишь на короткий период расцвета светского панарабизма в 1950–1967 гг. Сегодня это уже не тот панисламизм, которым он был в XIX веке и в начале XX-го, когда он вдохновлялся философией модерна и стремлением к глубокой реформе религиозных и политических институтов мусульманских стран и не поддерживал терроризм ни в одной из его форм. Как мы увидим далее, панисламизм, носителями которого сегодня выступают исламские движения джихадистского толка, стал, напротив, антимодернистским и антизападным (нацеленным именно против того, что теперь стали называть иудео-христианской традицией), он сосредоточен на замкнутой воображаемой картине идеального мусульманского города.
Тем не менее, можно также утверждать, что, поскольку тождественные причины ведут к тождественным следствиям, имперское американское расширение на Ближнем Востоке приняло эстафету у прежней европейской экспансии на мусульманский Восток [110]. И если морфология этого панисламизма радикально изменилась, создав ситуацию интеллектуальной изолированности, причина ещё и в том, что она отражает изменение интеллектуальной атмосферы на общемировом уровне, характеризующееся подъёмом антимодернистских идеологий, тон которых был задан Западом в контексте холодной войны.
Однако инструментализация религии в целях международной геополитики касается не только ислама. Иудаизм также был мобилизован в рамках холодной войны, чтобы создать препятствия для дряхлеющего Советского Союза за счёт поддержки русских диссидентов иудейского вероисповедания. В 1972 году даже ввели условия предоставления СССР режима наибольшего благоприятствования в торговле, связав их с соблюдением права советских граждан на эмиграцию, причем имелись в виду именно граждане иудейского вероисповедания [111]. В конце XIX века руководители зарождающегося сионистского движения выложили перед европейскими руководителями козырную карту – возможность, которой они якобы располагали, мобилизовать своих единоверцев по всей Европе, чтобы поддержать интересы Англии, в том числе и в других частях света [112]; именно это станет основанием для знаменитой декларации лорда Балфура в 1917 году, согласно которой министр иностранных дел Великобритании выделяет евреям «национальный центр» в Палестине, который станет зародышем будущего государства Израиль.
Несмотря на утверждение и развитие светскости в мире европейской политической культуры и ее центральную роль в развитии национализмов, смешение религии и национальности коснулось не только колониальной или имперской политики. Советский Союз еще в самом начале, применяя свою политику признания национальностей, создал еврейскую национальность и выделил ей особую область территорией в 42 тысячи квадратных километров, расположенную на границе с Китаем, в Биробиджане [113]. Позже маршал Тито, преобразовавший Югославию в коммунистическое государство, создал «мусульманскую национальность», в которую включил боснийцев.
В 1969 году, когда создается Организация исламского сотрудничества (ОИС), это новое применение религиозной идентичности в рамках международного порядка не вызывает никаких споров, ни даже недоумения, словно бы совершенно нормальным можно считать объединение государств, у граждан которых одна религия, а все остальное – язык, культура, политические режимы, уровни развития – разные.
Несомненно, причина в том, что это смешение религии и национальностей, которого европейская демократическая культура старательно избегала, когда речь шла о её собственных обществах, на самом деле постоянно практиковалось государствами Западной Европы в политике за пределами их собственных границ.
Бесспорно, однако, то, что за рамки этих новых феноменов религиозной идентичности, в значительной мере разогретых колониализмом, а затем геополитическим развитием конца XX века, выходит один из наиболее очеи видных признаков возрождения на Западе религиозной памяти – а именно та роль, которую играет выстраивание памяти о Холокосте и которая все больше становится центральной для системы западной идентичности.
Память о Холокосте: основополагающий акт возвращения религиозного?
В сущности, Европа этого исторического периода жила на двойной идентичности, составленной из национального чувства и в большей или меньшей степени окрашивающего его марксизма или антимарксизма. История немецкого национализма придёт при нацизме к окончательной кристаллизации убеждения в превосходстве немецкой нации над всеми остальными и к требованию освободить Европу от «злокозненного большевизма». Вот почему и в других европейских обществах нацистская идеология будет встречена с симпатией, объясняющей, на мой взгляд, её ошеломляющий успех, который не может быть приравнен к более позднему успеху её военной машины. Это ключевой момент, к которому мы ещё вернёмся, чтобы лучше выявить динамику возвращения религиозности в конце XX века и начале XXI-го (см. далее главу 4).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: