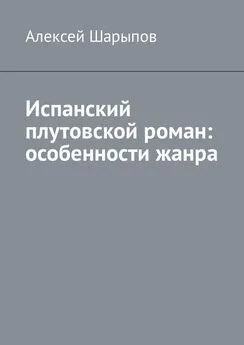Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На таких примерах становится отчётливо видно, в чём роман Булгарина стремится далее своих русских предшественников и действительно выходит за достигнутые ими пределы. Хотя и это повествование – жизнеописание негероического авантюриста, акцент однозначно делается не на забавной каверзе или плутовской авантюре, а на описании окружающего мира. Ряд Мартона – Чистяков – Выжигин воплощает нарастающее перемещение от плута или обманщика к «честному человеку» (причём такого рода перемещение начинается уже у Мартоны, если сравнить этот персонаж Чулкова с рассказчиками от первого лица в «Пересмешнике»). И в то же время ряд «Пригожая повариха» – «Российский Жилблаз» – «Иван Выжигин» даёт растущее обособление характеристики, чистого «описания нравов», за которым всё более исчезают плутовская проделка и специфическая плутовская перспектива. Булгарин называет свой роман не плутовским романом и даже не просто сатирическим, он создаёт для него специальное, позже всегда связывавшееся с «Выжигиным» понятие «нравоописательно-сатирический роман» [907]. Действительно, предпочитается атрибут «нравоописательный». Разумеется, само описание нравов намеревается быть сатирическим, но сатира для Булгарина – не занимательная насмешка, как для Чулкова, и не радикальная полемика, как для Нарежного. С самого начала она воспринимается морально-дидактически и является только вспомогательным средством более поучительного, чем полемического описания отечественных нравов.
Чулков определённо отказался от «моральной целевой установки, его беллетристические сочинения рассчитаны главным образом на развлечение и вполне ясно отделены от прагматических сочинений вроде настольных книг всей семьи и справочников. У Булгарина сознательно сочетаются развлечение и наставление, сатира, моральное поучение и практическое указание, утопия и этнографический интерес. «Нравственно-сатирический роман» оказывается поистине идеальной возможностью такого сочетания. При этом автор «Выжигина» заимствует основную плутовскую схему Лесажа, связывает её с техникой положительных и отрицательных «Портретов» Жуи, возвращается, кроме этих французских образцов, к сатирической литературе Польши, переносит всё на русскую почву и за отсутствием настоящего перспективного единства пытается достичь напряжения и единства с помощью вплетённой непрерывной интриги романа. Правда, изображение русского окружения по замыслу часто является ещё порядком сконструированным, а в реализации шаблонным; но в качестве «описателя нравов» Булгарин систематичнее Нарежного, по стилю более свободный и единый, обладает большим объёмом вариантов в описании различных сословий. Но прежде всего его попытка соответствовала по концепции и стилю потребностям и вкусу тогдашних русских читателей романов куда больше, чем давно забытые подобные попытки Чулкова или забытого, непонятого, «грубого» и «неприличного» Нарежного. Как раз в качестве автора, который ловко умел комбинировать чужие и старые техники, чтобы таким образом удовлетворить потребности своих читателей, Булгарин заслуживает внимания, особенно если учесть низкий уровень русского романа около 1825 г.
Но автор «Выжигина» претендовал на существенно большее. В предисловии к своему роману Булгарин недвусмысленно говорит: «… это первый оригинальный русский роман в этом роде» и «Смело утверждаю, что я никому не подражал, ни с кого не списывал, а писал то, что рождалось в собственной моей голове» [908].
Это «смелое» уверение объективно неосновательно, что очевидно не только для сегодняшнего исследователя, но было осознано и современной литературной критикой. И не в последнюю очередь завышенная самооценка Булгарина, отчётливо проявляющаяся в этом притязании, вызвала разгромную критику в адрес его романа, вскоре уничтожившую первоначальный успех сочинения у публики.
Глава 8
Критика «Выжигина» и подражание ему
Дискуссия, которую вызвал роман Булгарина «Иван Выжигин», поучительна во многих отношениях. Во-первых, это доказательство необычного (даже если и очень кратковременного) воздействия сочинения. Дискуссия разъясняет данное воздействие и способствует анализу романа. Во-вторых, благодаря ей распознаётся многообразие тогдашней русской критики и её влияния на читателей и литературу. И в-третьих, дискуссия, как малый, но типичный фрагмент, отражает общее положение в русской литературе около 1830 года, разъясняет, чего русский читатель и критика ожидали тогда от романа, показывает, как, начиная с 1829 года, роман стал предпочитаемой для русских авторов формой по сравнению со всеми другими жанрами на многие годы. По всем этим причинам будет уместно обстоятельнее остановиться на многочисленных критических работах о «Выжигине» и детальнее рассмотреть их.
Дебаты в литературных или полулитературных журналах начались сразу же с появлением романа, да, собственно уже и ранее.
«Северная Пчела», которую совместно издавали Булгарин и Греч, уведомляет в своём номере от 26 марта 1829 г. о выходе романа. Это извещение связано с рецензией Греча на произведение. Рецензент оправдывает выступление одного друга в пользу другого тем, что в Петербурге больше нет литературных журналов. В рецензии он почти исключительно повторяет то, что в предисловии подчёркивает Булгарин. Роман Булгарина – первый в русской литературе и не подражает также ни одному зарубежному романисту (ни Лесажу, ни Филдингу, Вальтеру Скотту и др.). Жизнь героя занимательна, но не необычна. Всё это – широкая, верная «панорама», в которой наряду с пороками всегда показываются и положительные стороны. Язык свободный и чистый, всё увлекательно и преисполнено умных размышлений. Поэтому легко предсказать будущую судьбу этого сочинения. Русская публика с благодарностью поймёт его значение, чванливые критики, педанты и неучи, его обругают, навозные мухи литературы примутся копировать автора, а светское общество возопиет «Quelle horreur!» («Какой ужас!». – Франц., прим. пер.) В качестве дополнения следует сообщение о том, что желающие могли бы обратиться к издателю Смирдину, так как у самого автора нет уже больше ни одного экземпляра [909].
Чтобы быть в состоянии определить значение такого извещения, следует знать, что означала для автора или сочинения хвалебная рецензия в «Северной Пчеле». Все остальные литературные или полулитературные периодические издания выходили тогда в виде ежемесячных или в лучшем случае еженедельных. «Северная же Пчела» выходила трижды в неделю. К тому же у газеты было больше всего подписчиков, и она добиралась до самых разных категорий читателей. Да ещё её издатели Греч и Булгарин наряду с этим журналом издавали ряд других литературных журналов, альманахов и т. д. и занимали в петербургской журналистике своего рода монопольное положение. Но их голос был слышен широкой читающей публике и в Москве. Так уже простое упоминание в этом издании могло иметь большое значение в качестве рекламы, а положительная рецензия оказывалась решающей с точки зрения реакции публики и спроса. Поэтому даже авторам «враждебного лагеря» часто не оставалось ничего другого, как искать поддержки «Северной Пчелы». Особенно впечатляющий пример этого рода – знаменитый роман Лермонтова «Герой нашего времени». Он вышел в 1840 г. в издательстве Глазунова, но, несмотря на свои высокие художественные качества и некоторые очень благоприятные отзывы критиков (в том числе Белинского в «Отечественных записках» [910]) встретил у публики поначалу лишь небольшой интерес. В конце концов издатель обратился к Булгарину и попросил его о рекомендации в «Северной Пчеле». Булгарин выполнил эту просьбу в № 246 за 1840 год. Результатом было, что роман сразу же нашёл сбыт и в ближайшее время оказался полностью распроданным [911].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)