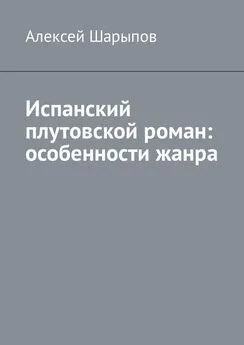Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все критики замечали в «Выжигине» отсутствие единства. Но оно есть как основная идея и главная цель автора – изобразить нравы русского «среднего сословия» [926]. В противоположность этому Булгарин как сатирик мог пренебрегать своими героями и их внутренней жизнью. Достойно критики только, что эта основная идея не проводится с достаточной последовательностью, ибо все вставки (о Киргизии, Венеции и т. д.), все чудесное и интриги излишни. Также часто неудачны и устарелы изображения русского, приносят какие-то фантомы доброго и злого, в то время как имеется всё же более чем достаточно актуального материала для «Русского Лесажа». Несомненно, «Выжигин» слабее подобных зарубежных произведений, но так же неоспоримо он – самое блестящее явление в современной нам прозаической словесности. И если слышат, что теперь вдруг около десяти различных русских авторов работают над романами, в этом, конечно, можно предположить воздействие «Выжигина», которого многие так критиковали» [927].
Но вскоре за этой попыткой относительно благожелательной оценки следует новая атака в «Вестнике Европы».
Она заключается в объявлении и комментарии, написанных соответственно по-польски и по-русски. Под названием «Новое польское произведение» читателей информируют о выходе перевода «Выжигина» на польский. Вслед за тем говорится, что это «польское произведение» «известного польского литератора» Тадеуша Булгарина [928]и «Досвядчиньский» Красицкого, подобно братьям-близнецам Кастору и Поллуксу – две яркие звезды польской литературы [929]. А в другом месте сказано, что автор «Выжигина» – «Жуи из краковского предместья» [930].
Литературные критика и полемика связываются здесь с личными полемическими намёками на происхождение Булгарина.
Наряду с рассмотренными до сих пор отдельными рецензиями в журналах следует учитывать и литературные годовые или полугодовые обзоры тогдашних альманахов, большей частью особенно подробно останавливавшиеся на «Выжигине», даже если они критиковали или вовсе отвергали роман. Так, О. Сомов в своём «Обозрении российской словесности за первую половину 1829 года» в альманахе «Северные цветы» обстоятельно рассматривает роман Булгарина.
«Выжигин» – важнейшее прозаическое произведение рассматриваемого периода. Мнения о нём очень различны. Хвалившие критики характеризовали сочинение Булгарина как первый оригинальный русский роман. Это преувеличение, ибо такая оценка подобает романам Нарежного. Но если критики, отвергающие роман, не оставляли от него камня на камне, то и эта позиция – точно так же преувеличение. Недаром же он воздействовал на все социальные слои. В своей критике Сомов повторяет в целом уже известное. Он хочет также оценить произведение «как роман», т. е. в качестве художественного произведения, недоволен вставками, моральными проповедями, неудачным описанием русского общества и интригой вокруг наследства (которая поблёкла уже во времена Прево). Как особенно заслуживающий порицания и давно устаревший приём осуждается замена автором отсутствующих изображений характеров (Выжигина и других) фамилиями со значением, которые он наклеивает на свои персонажи как этикетки на коробки. И в то время как другие критики хвалят по меньшей мере язык Булгарина, Сомов полагает, что язык этот хотя и правилен, но холоден и нежизнен. Напротив, хороши отдельные части рассказа, прежде всего эпизоды, происходящие в бывших польских провинциях [931].
Ещё резче критика или неприятие в «Обзоре русской словесности 1829 года» И. В. Киреевского.
Непосредственно перед «Выжигиным» Киреевский рассматривает роман Нарежного «Чёрный год» (вышедший равным образом в 1829 г., посмертно) и полагает, что роман Булгарина написан куда менее талантливо, но зато обрёл гораздо больший успех. Его язык более гладок, но бесцветен и вял. Всё пусто и безвкусно, описания неверны, моральные сентенции позаимствованы из детских книг. Но как раз это и соответствует публике, читательские интересы которой колеблются между «букварём» и старыми «историями». Не приходится оспаривать, что «Выжигина» много покупали, но возникает только вопрос о том, какая публика это делает. И чтобы поставить под сомнение успешную продажу, Киреевский прибавляет, что в том же 1829 году было продано даже 100 тыс. экземпляров «русского букваря» (и по 60 тыс. «церковно-славянского букваря» и «катехзизиса») [932].
Это перечисление рецензий на «Выжигина» за 1829 год не может претендовать на полноту. Но даже оно показывает, сколь велико было число рецензий уже в год издания. Если это доказывает с учётом «Выжигина», сколь живое эхо он находил в русской общественности, то в то же время с учётом самой критики разъясняется, и сколь живой была тогда в России журналистская литературная критика. И становится понятным, какой вес подобал ей как посреднице между результатами литературного труда и читающей публикой. Уже в то время, когда вышла «Пригожая повариха», существовали «журналы», на страницах которых также отражались литературные распри. Но при этом почти исключительно речь шла о полемике между самими авторами и о специфически сатирической журналистике, а не о систематической литературной критике. Точно так же и в пору «Русского Жилблаза» имелись отдельные литературные журналы и велись ожесточённые литературные дискуссии (например, между Карамзиным и Шишковым), но и здесь речь шла больше о полемике отдельных литераторов и их сторонников или о журналах определённых обществ. Численность и широта воздействия этих изданий были несравненно меньше, чем у профессиональной журналистики и литературной критики в 1829–1830 гг. [933]Критика стала теперь силой, с которой должен был считаться каждый автор в любых формах своей деятельности. Хорошие рецензии или одни уже искусно написанные уведомления в журналах могли решающим образом повлиять на успех книги. Как раз это и показывает начальный успех «Выжигина». Но точно также критика была в состоянии беспощадно раскрыть перед общественностью слабости сочинения или его автора. Это было невозможно ещё на рубеже веков уже потому, что цензурные предписания запрещали критику и полемику личного характера. Особенно чётко различимы и эти «негативные» для отдельных авторов отрицательные возможности журналистской критики на примере влияния «Выжигина». Правда, отрицательные критические работы не смогли воспрепятствовать первоначальному успеху «Выжигина», и именно потому, что это был начальный успех, потому, что он последовал непосредственно за выходом книги. В то же время критическим статьям в журналах, появлявшимся почти сплошь только ежемесячно, требовалось определённое время на разбег. Но они, несомненно, очень существенно способствовали тому, что успех романа был весьма непродолжительным и оставался чистым успехом продажи, тогда как мнение о необычном художественном достижении, представленное вначале, не смогли длительное время отстаивать даже защитники Булгарина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)