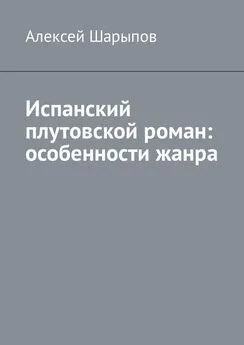Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У неё то общее со всеми остальными цитированными сочинениями, что имя Выжигина прямо включается в название. К этому добавляется – как в общей сложности в пяти из восьми сочинений – подзаголовок «нравственно-сатирический роман», который для современников был нерасторжимо связан с «Иваном Выжигиным» (et vice versa. – И наоборот. – Лат., прим. пер). В «Родословной» сверх того и всё внешнее оформление точно подражает роману Булгарина: несмотря на свою краткость, повествование выходит в 4 частях в формате 12°. В свою очередь, каждая часть разделена на различные главы. Но так как отдельные «части» в каждом случае представляют собой только маленькие тетрадки объёмом в 26–42 страницы, то на некоторые главы приходится едва ли больше двух-трёх страниц. Именно благодаря этому подчёркивается преднамеренность подражания и его пародическая целеустановка. При назывании отдельных «глав» не было забыто пародийное копирование характерных для «Выжигина» названий глав в форме эмоциональных возгласов и окликов, изречений и пословиц. «Предисловие», с которого начинается «Родословная», пародирует высказывания о сущности романа и о добродетели из предисловия к «Выжигину». Ведь предполагаемое определение романа, данное Орловым, растворяется в игре со словами, а призыв к добродетели заканчивается неоднозначным патетическим восклицанием: «Человечество! Человечество! Верные пути нам известны и указаны; мы же отказываемся идти по ним, желая подражать Каинам и Выжигиным».
Тем самым объявляется тема, звучавшая уже в названии, и красной нитью проходящая через всю «Родословную»: соседство Выжигина с Каином, представленное у Орлова как их «родство». Уже предисловие даёт сравнение обоих персонажей и их истории. Ванька Каин, говорится там, был простым плутом или мошенником, деятельность которого ограничивалась «рыночной площадью», и который забавлял читающую публику своими хитрыми надувательствами, чтобы благодаря этому в то же время и предостерегать её. Никому и в голову не приходило подражать ему. А Выжигин – плут и мошенник совершенно другого рода. Он «притворяется на иностранный лад», достигает высокого положения, внушает уважение и подстрекает на совершение «серьёзных преступлений». Предмет, интерпретируемый здесь с «моральной» точки зрения, в самом рассказе претерпевает «генеалогическое» изменение. Ванька Каин, который сам якобы происходит от библейского убийцы Каина – родоначальник всей семьи Выжигина, и это одновременно является исходным пунктом рассказа. В самом начале первой главы говорится: «История Ваньки Каина знакома почтеннейшей публике, но не полностью, так как был у него сын Иван…» Этот Иван – никто иной как Иван Выжигин, теперь представленный в кругу своих многочисленных родственников. В ходе сменявших друг друга бесед между этими самыми разными тётушками, дядюшками, племянниками, внуками и т. д. реконструируется предыстория семьи. Как узнаёт читатель, Каин во время бегства от русской полиции попадает на бывшую польскую территорию и в имение Гологордовского, сходится там с одной из служанок и оставляет ей внебрачного сына Ивана, который потом вырос «сиротой». Впоследствии он поменял неприличную фамилию Каин на более благозвучную Выжигин. И Пётр Выжигин, сын Картуша, «коллеги» Каина, тоже внебрачный ребёнок. Отцовство Ивана исключено здесь уже по возрасту, как подсчитала Выжигину его жена. Ведь в соответствии с «Иваном Выжигиным» Иван должен родиться примерно в 1775 г. и теперь (т. е. в 1830 г.) ему 55 лет. Но его мнимый сын Пётр, согласно «Петру Выжигину», уже в 1812 г. служил офицером и, следовательно, должен теперь быть 43-летним, что составило бы разницу в возрасте только в 12 лет. Уже это доказывает незаконность предполагаемого отцовства, и единственные законные сыновья Ивана – «хлыновцы» Игнат и Сидор [959].
Эта тёмная предыстория семьи расстраивает планировавшееся бракосочетание племянницы Ивана. Жених отказывается от брака, чтобы не породниться с Каином и Выжигиным. Но прежде он ведёт с другом долгий разговор о книге «Пётр Выжигин», где в первую очередь высмеивается равноценность Выжигина с Наполеоном. После расстроившихся планов брака племянницы должна быть выдана замуж дочь Ивана Выжигина. Этот-то план удаётся, потому что жених «Адскодуев» (от «адский» и «надуть») – сам мошенник, рассчитывающий на большое придание. Ведь тем временем умирает старый Иван Выжигин, и всё, что от него остаётся – это 30 тыс. рублей (конечно, полемический намёк на гонорар Булгарина), которые наследует его дочь. Разговор между женихом и его другом по имени «Кутила» снова служит продолжению прерванной критики в адрес «Петра Выжигина», причём на этот раз объектом иронии становятся прежде всего любовная история и приложенный список подписчиков (имеющийся и в «Петре Выжигине»). После бракосочетания Адскодуев разоблачает план побега своей жены и отвечает на эту «французскую манеру» «отеческими увещеваниями» «русского» свойства, т. е. изрядно колотит невесту и соперника, пойманного на месте преступления. Когда родня невесты призывает на помощь призрак Каина, одновременно с ним появляется и призрак Картуша, оба духа вцепляются друг другу в волоса, и свадьба превращается во всеобщую драку. Снова следуют беседы о «Выжигине», на этот раз о его безнравственности. Зато с действующими лицами происходит под конец моральное преобразование. Их охватывает раскаяние, и они соответствующим образом меняют свои имена: «Кутила» становится «Благоумовым» (от слов «благой» и «ум»), «Адскодуев» – «Честновым» (от слова «честный»). И это заключительное преобразование, вполне соответствующее «Выжигину», выливается в патетическую псевдохвалу «бессмертному» творцу «бессмертных» Выжигина, отца и сына.
Следовательно, в «Родословной» (как и во всех своих пародиях на «Выжигина») Орлов связывает косвенную полемику с помощью преувеличенной псевдохвалы, посредством пародийного подражания и т. д. с прямо полемизирующей критикой. При этом его полемика в действительности ещё жёстче, чем явствует из краткого изложения содержания. Он, например, не боится прямо назвать роман Булгарина пустым ничтожеством [960]. Или он заставляет свои персонажи воскликнуть, что 15 рублей за книгу – выброшенные деньги, и роман годится только на растопку [961]. Правда, Орлов также не утверждает, что его собственное сочинение – шедевр. Но нельзя забывать, что Орлов писал свои книги – также и пародии на «Выжигина», и как раз их – для публики, которой прямое и резкое изображение было куда более по сердцу, чем искусное ироническое пародирование стиля. И полемическое воздействие только усиливается благодаря огрублению. Как раз примитивность языка и среды превращают всё в действительное травести; она должна разъяснить, какой, собственно, литературный и человеческий уровень подобал «Выжигину» Булгарина. Орлов сумел также превратить нелепости или формальные недостатки своего собственного сочинения в полемическое оружие, направленное против романов Булгарина. Например, он замечает по поводу избытка бесед (от которого, несомненно, страдает «Родословная»), что «Пётр Выжигин» состоит, собственно, вообще только из бесед, в том числе даже таких, между Выжигиным и Наполеоном, о которых до тех пор, конечно, никто не слышал [962]. Или он полагает, что его собственное описание двух попыток сватовства, одной за другим, возможно, может быть скучным, но читатели ведь терпеливы, они же «читают даже то, что стоит 15 рублей, а с почтовым сбором 18, всевозможную дребедень, напечатанную на лучшей веленевой бумаге» [963].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)