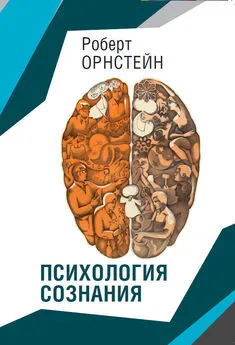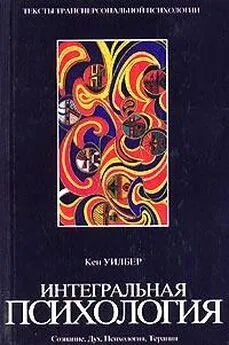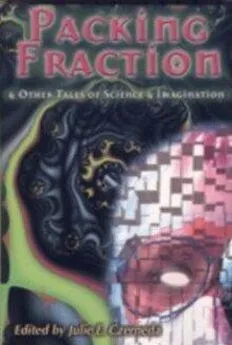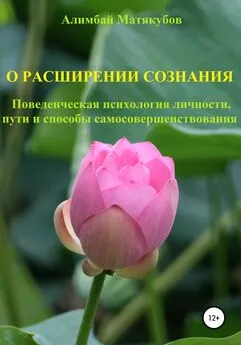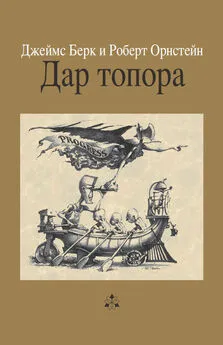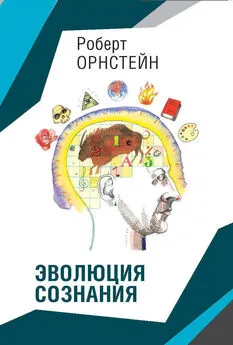Орнстейн Роберт - Психология сознания
- Название:Психология сознания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91051-073-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Орнстейн Роберт - Психология сознания краткое содержание
Психология сознания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нам трудно менять наши предположения даже перед лицом неопровержимых новых данных. Наш ум постоянно ищет компромисс: ценой определенного консерватизма и отторжения новой информации мы приобретаем неизменный, стабильный мир, в котором мы знаем, как поступать в разных ситуациях, то есть знаем, как выжить.
Словно слепец, любая организованная общность людей придерживается определенных, твердо установленных предположений о реальности. Некоторые из них характерны для жизни на земле, скажем, известно, что случится с предметом, если он упадет со стола. Некоторые предположения распространяются на целую культуру; они оформляются в языке и совместно используются для облегчения общения. Время, его движение и измерение – еще одно допущение, иначе было бы невозможно организовать ни одну встречу.
«Четырехминутная планка для забега на 1 милю» – частный случай общего допущения внутри одной культуры. Вдобавок, у каждой профессиональной и технической общности – физиков, математиков, философов, агентов по недвижимости, биржевых маклеров – есть дополнительный набор скрытых и явных допущений, подразделяемых на категории, с помощью которых можно классифицировать мир: «мебель» – одна категория, «невозможные явления» – другая.
В науке принятые многими учеными допущения и сами категории, скрытые и явные, Томас Кун назвал «парадигмами». Парадигма – это общепризнанное представление о том, что возможно в реальности, это границы допустимого исследования и предельные случаи. Она задает рамки, когда ученый должен понять, правильны ли его идеи и можно ли считать явление «фактом».
Научная парадигма работает таким же образом, как индивидуальная, культурная или принятая какой-то организацией система допущений о реальности. Личные категории по своей природе консервативны – это консерватизм успеха. Имея простой набор устойчивых категорий и простые врожденные реакции на мир, нам не нужно все переоценивать или измерять заново, чтобы понять, соответствует ли оно реальности: наши друзья сохраняют те же устойчивые черты характера, с которыми мы сталкивались, когда виделись последний раз; комнаты продолжают существовать, после того как мы их покидаем; мир становится легко управляемым и послушным.
В науке парадигма обеспечивает устойчивость системы знаний, опять же ценой невосприимчивости к новой информации. Наука не есть что-то особенное; в конце концов, ею занимаются люди, обладающие тем же психическим устройством, что и все мы.
Если несколько отдельных исследователей принимают одну парадигму, это позволяет им совместно изучать одну четко-очерченную область науки, согласовывать (а чаще оспаривать) усилия и сравнивать достижения. Общая парадигма позволяет им обсуждать данную область на специальном языке и со стандартными допущениями, подобно тому, как жители провинциального городка обмениваются местными словечками и прибаутками.
Продуктивная парадигма или удачный набор допущений о мире позволяет любой группе, в данном случае научному сообществу, придти к согласию о задачах и приоритетах; они могут выбирать задачи, поддающиеся решению. Она помогает независимым исследователям, многие из которых никогда не встречались, начертить «местную дорожную карту», проверять и обсуждать ее. Но здесь кроется все та же опасность – провинциализм, узость взглядов. Подобно тому, как местное население может возгордиться своим городком, почитая его «единственным» на всем белом свете, также и ученые, пользующиеся успешной парадигмой, могут упустить из виду другие возможности, выходящие за пределы их допущений.
Ученые приучены к тому, чтобы игнорировать больше информации, чем все остальные, – это результат специализации, которой требует их подготовка. Наука как система накопления информации предполагает набор сознательных ограничений процесса исследования.
Хотя представление о науке как об управляемом «не обращении внимания» может показаться легкомысленным, это не так. Суть хорошего эксперимента – исключение: пусть один фактор (называемый на научном жаргоне переменной ) будет меняться или подвергаться манипуляциям, в то время как будет измеряться некоторое, обычно очень малое число других факторов. Если, к примеру, нам нужно изучить реакцию клеток головного мозга на свет, нас сочли бы ненормальными, если бы мы вели при этом контроль за кровоснабжением стопы, следили за строительством в Куала Лумпуре, наблюдали за изменениями орбиты одного из спутников Юпитера. Понятно, что ученые должны почти автоматически исключать бесчисленное множество других возможностей, – настолько хорошо отработано их пренебрежение к посторонним несущественным деталям.
Ведя научное исследование, мы часто не сознаем всех возможностей наших средств, будь то материальные орудия или теоретические учения, как бихевиоризм или когнитивная психология. Оценивая избирательное воздействие узкого бихевиоризма на психологию, психолог Абрахам Маслоу писал: «Если ваш единственный инструмент – молоток, вы будете подходить к любому предмету так, словно это гвоздь».
Я сравниваю ученых и специфические научные способы познания со слепцами, потому что все действия ума последовательны и взаимосвязаны. Научная работа – это продукт перегонки (иногда сырой, иногда чистой) психических процессов и психических структур, которыми мы наделены. Ученому приходится больше ограничивать свое восприятие, чем обычному человеку, и отбирать небольшую часть знания для тщательного изучения.
Но как «отбирается» любая информация, поступающая в сознание? По всей видимости, в нашем мозгу развита чрезвычайно сложная сеть «путей» и «ворот», которые легко пропускают одни вещи и задерживают другие, поэтому мы храним в памяти очень упрощенный вариант событий.
Хорошим примером может оказаться ответ на простой вопрос: Какой сегодня день ? Если бы наше сознание отражало мир, между ним и миром не было бы никакой разницы. Но это не так. Нам требуется больше времени, чтобы ответить на этот вопрос в рабочие дни, чем в выходные, и дольше всего приходится вспоминать в среду! Наверное, причина в том, что мы судим о днях недели по их близости к выходным.
Большую часть времени мы не можем вспомнить даже те вещи, которые видим каждый день. Можете ли вы быстро сказать, какие буквы написаны на цифре «7» на телефонном диске? Или попробуйте перечислить месяцы по порядку и засеките время, а потом сосчитайте ошибки. Если вы такой же, как все люди, вы прекрасно справитесь с этой задачей! Потом постарайтесь назвать все месяцы в обратном порядке и засеките время. Наверное, это отнимет больше времени, и вы сделаете совсем немного ошибок, а может быть, ни одной. Теперь назовите месяцы в алфавитном порядке. Оказывается, это на удивление трудно, особенно, если учесть, что вы знаете названия месяцев и только что их дважды повторили, и, конечно же, знаете алфавит по порядку! Это трудно, потому что наш ум устроен так, чтобы хорошо производить лишь немногие операции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: