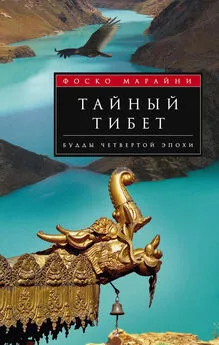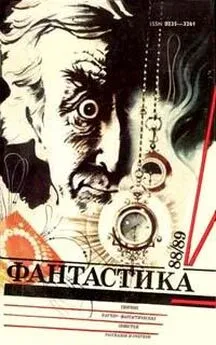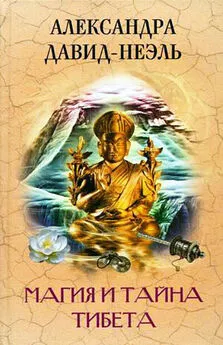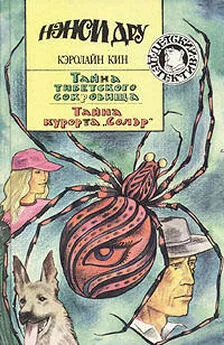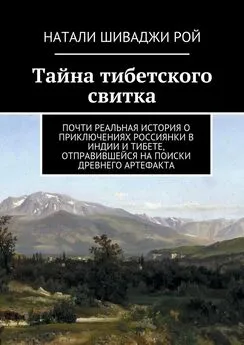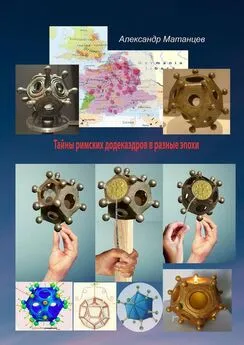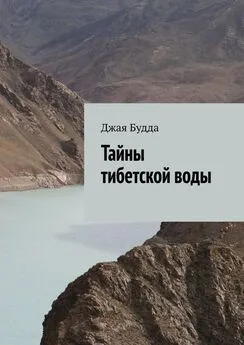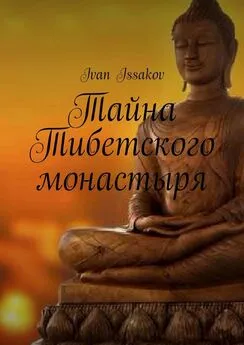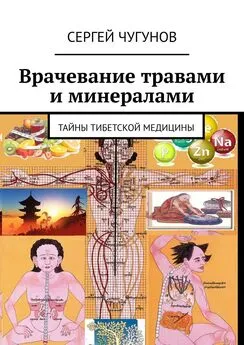Фоско Марайни - Тайный Тибет. Будды четвертой эпохи
- Название:Тайный Тибет. Будды четвертой эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9524-5064-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фоско Марайни - Тайный Тибет. Будды четвертой эпохи краткое содержание
Известный ученый и путешественник Фоско Марайни глубоко изучил тибетскую культуру и религию. Его книга – плод длительного и необычайно увлекательного путешествия в Тибет, на корабле, поездом, а затем караванным путем в Лхасу – написана языком настоящего мастера слова. Побывав в тибетских монастырях, Марайни описал их обитателей, уклад, традиции, мистические ритуалы и подчас забавные особенности быта. Любуясь чортенами, символическими изображениями всей ламаистской космогонии, автор объяснил их смысл и значение для тибетской религии. Он также представил подробности жизни всех слоев тибетского общества от крестьян до светской и религиозной знати. Особое внимание Марайни уделил понятию ламаизма, и прежде всего личности того, кто инициировал великое движение, – Гуатаме Будде Пробужденному.
Тайный Тибет. Будды четвертой эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще одно, что подчеркивается в тантрах, – это ужасная форма, которую принимают милостивые боги, чтобы сразиться с силами зла и победить их. Многие ламаистские божества не менее часто предстают в их ужасных формах (трово), как и в мирных (шиво).
Итак, наш путь завершен. Именно этот буддизм «алмазной колесницы» проник в Тибет и по сию пору неоспоримо правит им. Это делает несколько более понятным глубокий контраст между внутренним миром тибетцев и кристальным великолепием их природной среды. Тибет – словно живой музей. Во тьме тибетских храмов до сих пор сохраняется Индия, пересаженная туда более тысячи лет назад. Это невидимые джунгли духа, невидимо окаменевшие среди льда.
Таким образом я попытался очень кратко изложить жизнеописание Будды и его учения, насколько можно его восстановить, а также тех трансформаций, через которые оно прошло, прежде чем оказалось в Тибете. (Буддизм был введен в Тибете в основном благодаря усилиям Падмасамбхавы в VIII веке н. э.) Сейчас я попробую изобразить картину вселенной, какой ее представляет тибетец, ограничившись важнейшими фигурами ламаистского пантеона. Эта картина – упрощение, и верования, которые я описываю, не надо воспринимать как догму. Есть тибетская пословица:
Лунгпа ре ре, келу ре,
Лама ре ре, чолу ре.
В каждой деревне свой говор,
У каждого ламы свое учение.
Каждый учитель, каждая школа имеет собственную точку зрения на все эти вопросы.
Первый порыв буддизма в сторону все более и более теистических форм проявлялся в течение нескольких веков в двух существенно различных видах. С одной стороны, существовала распространенная тенденция постоянно принимать и включать новых богов-защитников, новых демонов, новых фурий и мифы. С другой стороны, существовала философская тенденция, которая так или иначе обязательно достигала апогея в виде абсолютной, несозданной, изначальной сущности. Мне кажется это удивительным, что окончательное завершение этого процесса случилось лишь в X веке н. э., когда до него наконец дошли несколько непальских школ. Возможно, это показывает, как глубоко укоренен в буддизме агностицизм – вера, что конечная реальность вселенной находится в физической природе кармы.
Непальские школы в конце концов дали имя Единому, Внешнему, Несозданному, Сваямбху (Самосущее существо). Они назвали его Ади-будда, или первый будда. Ади-будду, как правило, принимают в современном Тибете, но в каждой из трех основных сект приписывают ему иную личность, во всяком случае, иную поверхностную личность.
Школа Гелуг («добродетельные») – «желтая вера», получившая название из-за цвета их головных уборов, – отождествляет Ади-будду с Ваджрадхарой («Держатель ваджры»; по-тибетски Дордже Чанг), «неуничтожимый господь всех тайн, хозяин всех секретов». Ваджрадхара изображается сидящим в драгоценном венце и одежде молодого индийского принца. В качестве символов он держит ваджру – по-тибетски дордже, молнию, – и мистический колокольчик, а его руки находятся в положении, которое называется ваджрахумкара. Его часто изображают в союзе с его шакти Праджняпарамитой («Совершенная мудрость»).
Согласно ламам школы Кагью («Передача устной традиции»), Ади-будда – это Ваджрасаттва («Тот, чья сущность свет»; тибетский эквивалент – Дордже Семпа), метафизическая личность, очень похожая на Ваджрадхару и очень похоже изображаемая в искусстве. Однако школа Ньингма («Школа старых переводов») считает, что Ади-будда – совсем другая фигура, а именно Самантабхадра («Всеблагой»), который изображается совершенно голым, синекожим, в объятии с шакти, тоже обнаженной, но белой.
Это поистине поразительный опыт – проникнуть в душный и благоговейный мрак храма, где тишина кажется реальной вещью, имеющей плотность и последовательность, и там, в самых дальних глубинах, на золотом алтаре среди драконов, цветов лотоса, парчи, павлиньих перьев, мерцающих огоньков масла, горящего в маленьких чашах, и масла, вырезанного в замысловатых формах и узорах для приношения, оказаться лицом к лицу с Абсолютом, Конечным, Первым, Вечным, Бесконечным и Всепроникающим в форме облаченного в драгоценности принца, сладострастно обнимающего свою супругу. Какое фантастическое воображение, какая метафизическая смелость – изобразить самую абстрактную концепцию, концепцию, определяемую только через отрицание, как математическую бесконечность, в таком самом что ни на есть конкретном, самом плотском образе, который только можно себе представить; сделать символом того, что не имеет ни начала, ни конца, то, что, как правило, эфемерно и мимолетно; отождествить предельную умиротворенность с предельной страстью, кристальный свет звезд с пламенем любви, невидимое и неосязаемое с опьянением всех чувств; и напомнить о единстве вселенной, осознания которого разум достигает очень редко во вспышке озарения в результате наивысших усилий, изображением того момента, когда все мысли теряются и полностью уничтожаются!
С одной стороны, перед нами алмазная чистота Ади-будды, с другой – сансара, преходящий, ненадежный, мучительный, иррациональный мир. Но между двумя этими крайностями есть промежуточные, переходные фазы. Первый шаг между Единым и множеством, между бытием и становлением, – это разделение Ади-будды на пять его проявлений, или аспектов, пять Дхьяни-будд («будды Высшей мудрости»). Они существуют неподвижно, медитируя, почти как платоновские идеи, архетипы реальности, в их «сущностном теле» (дхармакая) в совершенно нематериальной форме.
Каждый Дхьяни-будда возглавляет одну из пяти эпох мира (калпа). Каждая из этих калп продолжается тысячи лет; количество лет варьируется в зависимости от школы. Три калпы уже прошли, и теперь мы живем в четвертой. Каждый из пяти Дхьяни-будд эманирует один из пяти цветов, один из пяти элементов, одно из пяти чувств и одну из пяти гласных. Каждый возглавляет сторону света, сидит на своем мистическом животном, имеет свой мистический символ и свой мистический цветок, и руки у него сложены в своем мистическом жесте. Все элементы, согласно индийской мысли, составляющие вселенную, все неизменные зачатки изменения и становления происходят от одного из пяти Дхьяни-будд. Цвета и физические элементы так же важны, как чувства и слоги; макрокосм и микрокосм оказываются взаимозаменяемыми, проекциями друг друга, фазами, моментами идентичного Всего.
Дхьяни-будды изображаются в виде аскетов, монахов, без украшений, без венцов и драгоценностей; они сидят неподвижно в положении самой глубокой медитации. Очень редко они изображаются в союзе со своими шакти. В таких случаях они уже в богатых украшениях и со всеми полагающимися атрибутами царского достоинства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: