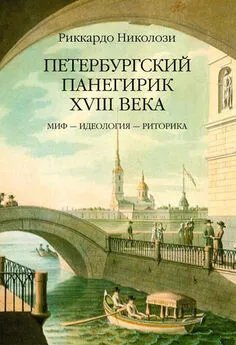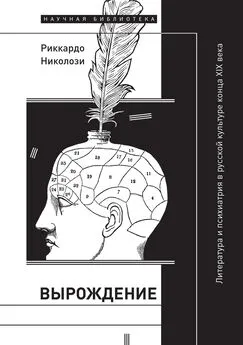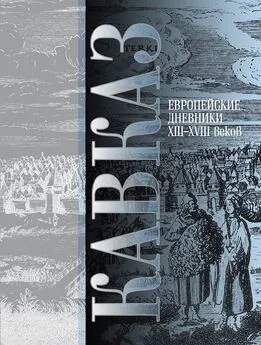Риккардо Николози - Петербургский панегирик ХVIII века
- Название:Петербургский панегирик ХVIII века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0319-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Риккардо Николози - Петербургский панегирик ХVIII века краткое содержание
Петербургский панегирик ХVIII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
2. Жанровое пространство панегирика
Панегирик, согласно схеме трех аристотелевских родов (genera), совпадает с эпидейктическим жанром (έπιδεικτικόν γένος – genus demonstrativum). В отличие от судебного и совещательного видов красноречия, предметом эпидейктического жанра является не спорное дело, или «деяние» (res dubia), а заведомо конкретные обстоятельства (res certa), которые должны подтверждаться оценкой (похвалой или порицанием). Его так называемые речевые действия, часто неверно определяемые как функции, ограничиваются альтернативой: похвала (επαινος – laus) или порицание ((ψόγος – vituperatio) [30] См.: [Lausberg 1973: 55; 129–138].
.
Таким образом, в панегирической речи подтверждается единодушное, всеобщее мнение о рассматриваемом «деянии» (res) на основе преимущественно бинарных возможностей утверждения или отрицания. Панегирик, как правило, утверждает и санкционирует определенный порядок власти и связанный с ним набор ценностей, прославляя его или же (в зависимости от обстоятельств) осуждая противника или противную сторону. Для панегирика показательна «идеология утверждения» и одновременно отрицания, в зависимости от того, о чем идет речь: о «позиции оратора и адресата» или «реального или предполагаемого противника» [Uhlenbruch 1979: 67]. Утверждение достойного похвалы «ныне» соотносится, как правило, с заслуживающим порицания «прежде», и эта оппозиция выражается часто в мифологических категориях (золотой век versus хаос, locus amoenus versus locus horribilis и т. д.). Привязанность к оппозиции «прежде – ныне», как правило, лишает панегирик процессуальности в изображении исторических событий. Переход от «мрака» к «свету», от «хаоса» к «космосу» в текущей политической и культурной действительности сиюминутен и изображается как нечто уже свершившееся.
Панегирик имеет преимущественно подтвердительно-описательный и одновременно (в бинарных категориях) оценочный характер. Это, однако, выражает лишь его базисную структуру: в дальнейшем будет показано, что панегирик выполняет зачастую более дифференцированные риторико-коммуникативные функции. Ведь эпидейктическая речь, несмотря на свою «а-дискурсивность», то есть сосредоточенность на предметах, «не нуждающихся в дискурсивном пояснении», не монофункциональна – она не только утвердительна или репрезентативна, но может носить, например, и прескриптивный или даже «субверсивный» характер [Kopperschmidt 1999: 14].
Обыкновенно панегирик – это стихотворение «на случай» (ad hoc, окказиональная поэзия), причем под «стихотворением» здесь понимается как мерная речь, так и проза. В этом ее качестве панегирическую литературу отличают три существенных признака: окказиональность, репрезентативность и функциональность [31] См.: [Hambsch 1996: 1378–1379] со ссылкой на [Drux 1985].
. Будучи литературной формой, возникающей, как правило, внутри придворного коллектива, панегирик отражает репрезентативные для этого коллектива официальные события (occasiones), которые в нем торжественно изображаются и прославляются. Достойными прославления поводами могут быть, в частности, важные события в жизни монарха и членов царской семьи (коронация, венчание, рождение, кончина и т. д.) или же победа в войне, заключение мира, посещение монархом какого-либо города и т. д. Панегирическое восхваление таких событий не просто одномоментно, оно регулярно повторяется (день коронации, день рождения, день смерти), подтверждая тем самым единодушное состояние двора (радость или скорбь), которое не должно прерываться, при этом двор метонимически олицетворяет все общество [32] В качестве примера из русской литературы ср. оды в честь восшествия на престол Елизаветы, написанные Ломоносовым не только в 1742 г., но и в 1746, 1747, 1748, 1752 и 1761 гг.
.
Следующий признак панегирика – репрезентативность – ни в коей мере не сводится лишь к пышной, бесцельной саморепрезентации двора, преследующей чисто эстетические цели. Эпидейктическое красноречие – это не просто риторическое «искусство ради искусства», как его часто определяют со ссылкой на Аристотеля [33] См., например: [Lausberg 1973: 130f.; Matuschek 1994: 1258].
. Аристотель, предпринявший в своей «Риторике» первый опыт теоретической систематизации панегирика, отмечал, что эпидейктическое красноречие рассчитано на «наслаждающегося», а не «оценивающего» реципиента, которому важен главным образом стиль речи, а не ее содержание [34] Аристотель проводит различие между «практическим» красноречием, к которому относятся судебная и совещательная речи, и «торжественным», или эпидейктическим, красноречием, которое ввиду его «бесполезности» занимает в риторической концепции Аристотеля маргинальную позицию (см. об этом: [2гште1ег 1999: 383–385]).
. На основании этого эпидейктическое красноречие часто понималось исключительно как демонстрация ораторского мастерства [35]. Такое восприятие, однако, не учитывает значения функциональности панегирика, коренящейся уже в самом факте символического изображения власти. По замечанию Б. Хамбша, восхваление монарха и панегирик вообще изображают «в типизированной форме политические и моральные представления о норме как уже реализованные»; они служат «церемониальному приходу к власти или ее утверждению» [Hambsch 1996: 1379].
Придворный порядок, или придворная «истина», которая должна подтверждаться в панегирике как риторическая res certa, может быть, однако, еще не закрепившейся в обществе или совсем новой. Здесь проявляется другая функция эпидейктической речи: она может стать «убеждающим способом распространения и закрепления определенного порядка власти» [Hambsch 1996: 1379] – как это было в России Петровского времени – или нового режима, например, после смены власти. В таком случае панегирик участвует скорее в создании, а не в закреплении политических и социальных норм.
Придворный панегирик – это, таким образом, не только торжественное признание заслуженной монархом похвалы, но и (пусть только и в отдельных случаях) скрытая политическая речь (не исключающая подспудной критики) [36], направленная на то, чтобы связать правителя обязательством по отношению к нормам, сформулированным в речи или стихотворении. В этом смысле панегирик заключает в себе не только дескриптивное, описывающее, но и прескриптивное, предписывающее начало [37].
Этимологически понятие «панегирик» происходит от греческого слова πανήγυρις, означающего торжественное собрание, на котором произносились хвалебные речи (πανηγυρι κόι λόγοι), часто в честь какого-нибудь бога. Это тексты, изначально предназначенные для публичного восприятия. С формированием придворной культуры и придворной риторики это специфическое явление развивается в сложную коммуникативную ситуацию, которую Б. Уленбрух [Uhlenbruch 1979: 65] описывает следующим образом на примере русской придворной культуры:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: