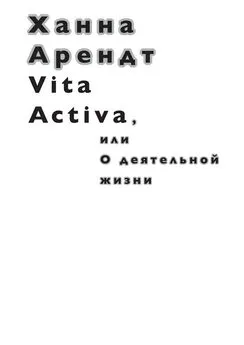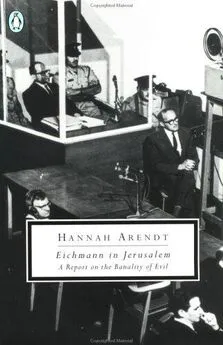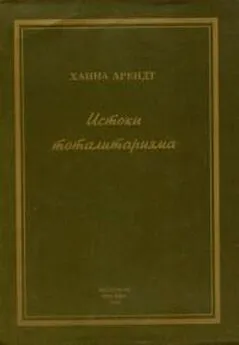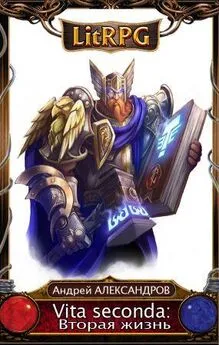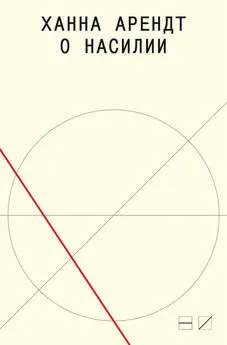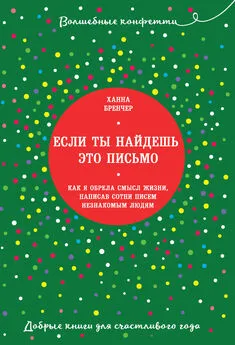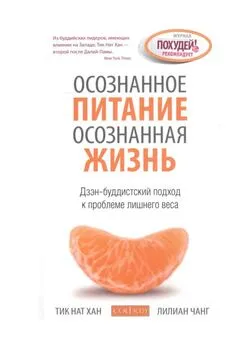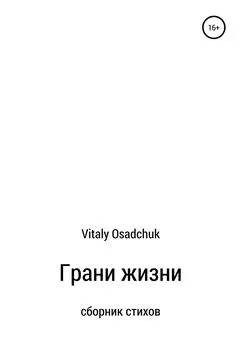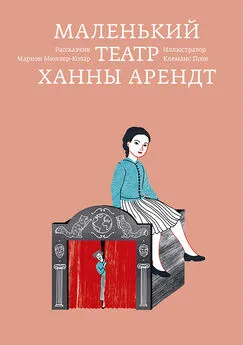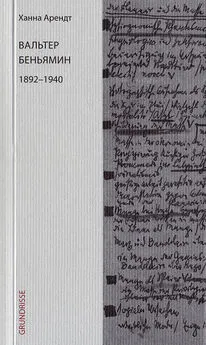Ханна Арендт - Vita Activa, или О деятельной жизни
- Название:Vita Activa, или О деятельной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-321-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ханна Арендт - Vita Activa, или О деятельной жизни краткое содержание
Одно из редких философских произведений современности, способное увлечь любого образованного читателя.
Vita Activa, или О деятельной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
48
R. Н. Barrow , Тhе Romans, 1953, р. 194.
49
То, что Левассёр ( E. Lеvasseur , Histoire des classes ouvrièr et de l’industrie еn France avant 1789, 1900) констатировал в отношении феодальной организации труда, справедливо для всего феодального общества: «Chacun vivait chez soi et vivait de sois-même, le noble sur la seigneurie, le vilain sur sa culture, le citadin dans sa ville» (р. 229).
50
Приличное обращение с рабами, рекомендуемое Платоном в «Законах» (777), имеет мало общего со справедливостью и является вопросом самоуважения, не учета интереса рабов. О параллельном существовании двух законов – одного действующего среди свободных и другого для главы семейства и хозяина – см. Валлон (ор. сit., II, р. 200): «La loi, pendant bien longtemps, donc… s’abstenait de рénétrer dans la famille, оù еllе reconnaissait I’empire d’une autre loi». В той мере, в какой античное, особенно римское законодательство вообще вмешивалось в семейно-хозяйственные обстоятельства – обращение с рабами, семейные отношения, – оно это делало чтобы смягчить неограниченную в принципе власть хозяина и главы семейства. Чтобы справедливость распространялась на совершенно «приватную» совместную жизнь рабов, было немыслимо; они были per definitionem вне закона и подчинены власти своего господина. Только сам господин, поскольку он был не только рабовладелец, но еще и гражданин, стоял под законом, который тогда в интересах государства мог урезать его семейно-хозяйственную власть.
51
W. J. Ashley , ор. cit., р. 415.
52
Буквально «восхождение» из низшей сферы или ранга в более высокую составляет у Макиавелли постоянно повторяющуюся тему. См. прежде всего «Государь», гл. 6, об Иероне Сиракузском, и гл. 7; а также «Рассуждения» книга II, гл. 13.
53
«By Solon’s time slavery had come to be looked on as worse than death» ( Robert Schlaifer , Greek Theories of Slavery from Homer to Aristotle, в Harvard Studies in Classical Philology, 1936, vol. XLVII). Что сами рабы явно это мнение не разделяли, привело к известному и для нас столь скандальному допущению что есть люди, которые «по природе» рабы, что подробно разбирает Аристотель (в гл. 5 книги 1 своей «Политики»). Рабов упрекали в чрезмерной любви к жизни, φιλοψυχία, иначе говоря в трусости. Так Платон был уверен, что доказал рабскую природу рабов, указав на то что они ведь могли бы предпочесть смерть порабощению (Государство 386а). Позднее эхо этого слышится еще у Сенеки, который на жалобы одного раба отвечает: «Почему кто бы то ни было должен был делаться рабом, когда свобода так близко под рукой у каждого?» (Ер. 77, 14); ибо «для того, кто не умеет умирать, жизнь в любом случае рабство» (vita si moriendi virtus abest, servitus est – ib. 13).
Чтобы понять эту установку, надо вспомнить о том что большинство рабов в древности были побежденные враги; лишь небольшой процент рекрутировался из людей, родившихся в рабстве. Римская республика привлекала вообще свой контингент рабов из стран вне римского господства, но греческие рабы были большей частью тоже греки. Вместо того чтобы позволить продать себя в качестве пленных в рабство, они могли совершить самоубийство, а поскольку мужество было кардинальной политической добродетелью, предпочтя жизнь они тем самым уже доказали, что «по природе» не годятся быть свободными и гражданами полиса. Также и в Риме слово labos тесно связано с представлением о позорной смерти (см. напр. Вергилий , Энеида VI), и эта установка изменилась лишь в позднейшие века Римской империи, когда не только стало сказываться влияние стоицизма, но и рабское население большей частью пополнялось из людей, родившихся рабами.
54
В этой связи Эдуард Майер в своем докладе «Рабство в древности» (Дрезден 1898) цитирует застольную песнь критянина Гюбрия: «Богатство мое копье и меч и украшенный щит… А кто не отваживается владеть копьем и мечом и украшенным щитом, охраняющим тело, те в страхе ложатся у моих ног, взывая ко мне как к своему господину и великому царю».
55
См. его «Agrarverhältnisse im Altertum», в Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1924, S. 147.
56
См. Политика, кн. 1, гл. 2.
57
Хорошей иллюстрацией здесь служит замечание Сенеки, который, обсуждая полезность высокообразованных рабов (знающих классиков наизусть) для по-видимому порядком невежественного господина, комментирует: «Что знают домочадцы, знает хозяин» (Письма к Луцилию 27, 6, цит. по Barrow , Slavery in the Roman Empire, p. 61).
58
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, Илиада VI 208, «всегда быть первым и преобладать над остальными» – главная забота гомеровских героев, а Гомер был всё-таки «воспитатель всей Эллады».
59
«Наука» политической экономии существует лишь с Адама Смита, для экономических учений канонистов хозяйствование «искусство», а не наука (см. W. J. Ashley , op. cit., p. 379 ff.). Классическая политическая экономия уже предполагает, что человек, насколько он вообще занят активной деятельностью, действует исключительно в собственных интересах и повинуется только одному инстинкту, инстинкту приобретения. Введение у Адама Смита некой «невидимой руки, которая достигает цели никем не ставившейся», ясно показывает, что даже и такой минимум инициативы всё еще содержит слишком много непредвиденных и неподрасчетных факторов и потому неподъемен для науки. Маркс редуцировал затем необозримое множество частных интересов к классовым интересам, а эти классовые интересы ограничил далее двумя основными классами, капиталистами и рабочими, так что ему в своей науке приходилось иметь дело только с одним единственным конфликтом, в то время как классическая экономия не могла стать научной, потому что увязала во множестве взаимопротиворечивых конфликтов. Марксова система смогла достичь немыслимой у его предшественников ранее согласованности и связности потому, что Маркс поставил в средоточие своих рассмотрений «обобществленного человека», который в еще намного меньшей мере способен к поступку и к собственной инициативе чем «экономический человек» классической и либеральной науки о народном хозяйстве.
60
Одна из главных заслуг Мирдаль (op. cit., р. 54, 150) состоит в демонстрации того, что именно либеральный утилитаризм, а не социализм первым «оказался загнан в несостоятельную “коммунистическую фикцию” относительно единства общества» и что эта «фикция» присуща большинству сочинений экономистов. Мирдаль показывает, что политэкономия только тогда может быть наукой, когда исходит из гипотезы, что всё общество как целое повинуется одному единственному интересу. За либеральной презумпцией гармонии интересов стоит всегда «коммунистическая фикция» единого основополагающего интереса, который тогда и опознаю´т в таких общих понятиях как «всеобщее благосостояние» или «commonwealth». Либеральная экономия таким образом всегда следовала «коммунистическому» идеалу, а именно «интересу общества вообще» (р. 194–195). Всё цепляется за то, что понятие общества вообще «сводится к тому что социум воспринимается как один единый субъект. Это однако концептуально прямо-таки непредставимо. Когда мы пытаемся представить себе общество таким образом, мы уже абстрагировались от того существенного обстоятельства, что общественная деятельность есть результат целеполаганий многих индивидов» (р. 154).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: